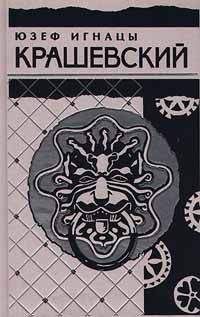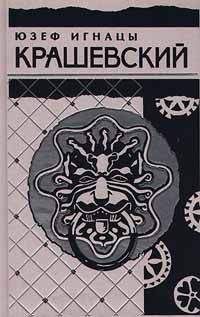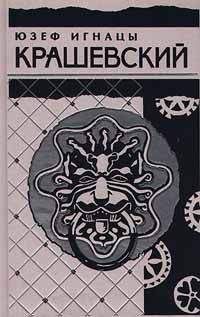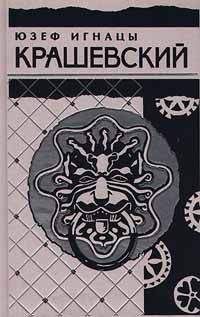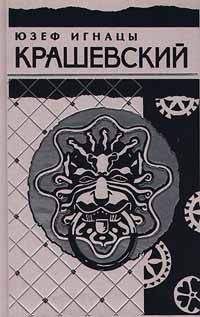А жил в старом гнезде в это время дед болеславцев — ястшембцев, которых мы видели при дворе Болеслава Щедрого; а было ему без малого сто лет. Он помнил первых королей, пережил все, и на его глазах вершились судьбы родной страны; слепой, он не выпускал из рук старшинства в роде. Его сыновья, внуки и правнуки разлетались из городка по свету; искали счастья с оружием в руках; оседали по берегам Вислы, Варты, Одры, Буга. Поумирали жены, а женат он был не раз; повыходили замуж дочери и ушли из дома, за исключением одной, вдовой и бездетной, вернувшейся под отчий кров; так доживал он век свой, не сломленный ударами судьбы; и хотя года лишили его зрения и надорвали силы, но не сломили старика.
Никто и никогда не видел слепца за пределами Якушовиц: он никогда не выходил и не выезжал за околицу своих валов; но кому хоть раз удавалось его видеть, то помнил век.
Он был мужчина сильный и живучий; не такой рослый и плечистый, как зачастую бывали люди того века, но сухощавый, с широкой костью, огромной годовой и продолговатым лицом, на жилистой, сухопарой шее. Руки были большие могучие; ноги маленькие и кривые.
Цвет лица издавна был мертвенно бледный, быть может, от частых припадков ярости. Ибо, как все ястшембцы, старик легко впадал в гнев и, разъяренный, доходил до бешенства.
На пожелтевшей коже густою сетью расползлись складки и морщинки, пересекавшиеся по всевозможным направлениям. Большие, серые глаза, угасшие, затянутые бельмами, были всегда открыты, как у зрячего. Взгляд был грозный, приводивший в трепет; и хотя все знали, что старик слепой, многие не могли выдержать его пристального взора. Седые с желтизною волоса густыми прядями падали на плечи, борода была по пояс. Он сам пальцами расчесывал ее надвое, посередине, и, когда она мешала, забрасывал одну коему за правое, другую за левое плечо.
На ходу, ничего не видя, он высоко подымал голову и смотрел кверху; рот невольно раскрывался, брови морщились, и весь он был как упырь, вставший из могилы.
Одевался старик по простоте; летом и зимой носил один кафтан из грубой ткани; шея была голая, а сорочки, по старому обычаю, не признавал. Голос сохранился сильный, хотя грудь уже ввалилась; а слух такой, что издалека улавливал жужжанье мухи. Этим отчасти возместилась утрата зрения: ослепнув, старик так изощрил слух, что он частью заменил ему глаза. Из-под старой сукманы, когда она была расстегнута, виднелось тело, обросшее, как у медведя, густою грубой шерстью, покрывавшей руки и почти все лицо.
Все в доме боялись старика, так как он был гневен, а в гневе забывался, хотя порой мог быть без меры добр. Припадки ярости были для его необходимы, как насущный хлеб; не посердившись, он не мог и есть. Только распалившись гневом, накричавшись, набранившись, нагрозившись, старик чувствовал, что как будто оживает.
С тех пор, как зрение погасло, у него всегда был под рукою, взамен глаз, десятилетний малец, служивший ему поводырем, глядевший за него и говоривший, что прикажут. Старик держался вытянутой рукою за длинный отложной ворот его кафтана, а в другой руке нес посох.
Так обходил он замок, а где не доверял глазам ребенка, там нащупывал рукой. Пальцами он распознавал даже людей; и если кто молчал, то слепец проводил ладонью по его лицу и называл по имени. А память была такая, что раз кого увидев или услышав голос, старик уже не забывал.
Старый Ястреб — а звали его излюбленным в роду Ястшембцов именем, Одолай — похоронил четырех жен. Четвертая умерла бездетной, когда старику было уже под семьдесят. И, верно, он женился бы и в пятый раз, если бы вскоре не ослеп.
— Слепому жениться безрассудно, — говаривал он, — когда и четырьмя глазами за бабой не усмотришь.
Тогда-то он и вернул немолодую уже дочь-вдову, по имени Тыту, чтобы она вела хозяйство. И хотя Тыте было уже за пятьдесят, отец помыкал ею, как ребенком.
Шла молва, будто в клетях у старика накоплено много всякого добра. Он и слепой никого не допускал к своим сокровищам. Старик был скуп; детям давал мало, а то и ничего. Чаще всего щедроты старика ограничивались дорожным снаряжением и оружием, чтобы дети сами добывали счастье и богатство.
Обширные земли, входившие в состав Якушовицкого поместья, приносили хорошие доходы. Но владелец жил, как простой батрак, ничего на себя не тратя. Когда же изредка принимал гостей, то кормил их и поил так же, как сам ел и пил. Несмотря на слепоту, он все держал в руках: и людей, и ключи, и воду; никто не смел ступить без его ведома.
Потомство Одолая от трех первых жен насчитывало, пожалуй, до сотни человек, с внуками, правнуками и праправнуками. Все они рассыпались по свету. А когда родня в дни семейных празднеств съезжалась на поклон, каждый, несмотря на хорошую память пращура, должен был доподлинно выложить, чей он сын или кому доводится внуком, так как старик уже потерял им счет. А так как в семье много было тезок, то не всегда можно было разобраться, какого Одолая сын приехал на поклон к прадеду Одолаю.
Городище, даже во времена глубокого и нерушимого мира в государстве, оберегалось так примерно, содержалось стражею в таком порядке, как будто бы война стояла у порога. Менялись ополчения из деревень, ходила стража, ворота закрывались на данный с угловой вышки знак и снова открывались утром, когда пастухи выгоняли стадо. А у ворот всегда стоял дозор, вооруженный короткими рогатинами.
Старик спал плохо, так как для него вечно была ночь, а потому в любое время суток расхаживал по замку. Городище он изучил в подробностях и обходил ей без помощи поводыря, умея попасть в любое место. За ним по пятам следовал огромный, косматый, бурый пес со страшными желтыми глазами. Кличка старого приятеля была Хыж, а Одолай пережил четыре поколения таких Хыжей. Пес никогда не лаял и не ворчал, а если ему что-нибудь не нравилось, бросался молча, сразу, рвал и хватал за горло. Только когда бывал не совсем уверен в своих чувствах, он рычал, чтобы заставить хозяина высказаться. Потому было невозможно напасть на старика врасплох.
Старые замковые хоромины, с незапамятных времен чинившиеся и подпиравшиеся, были скорее похожи на сараи, чем на жилые помещения. Одолай не любил строиться и был пропитан общеславянским предрассудком против новых срубов, для прочности которых, по преданию, непременно кому-нибудь да надо умереть. В конце концов, из строений уцелели те, которые раз выстроенные кое-как держались; а если рушились от ветра, то их подымали и латали, и чинили, как могли. За исключением одного сруба, выстроенного много лет тому назад из толстых бревен, и званого «избицей», все остальное были мазанки, плетень да глина, низкие и жалкие. Многие от старости вросли в землю, так что в общей куче походили на семью грибов, разросшихся после дождя, ибо высокие омшаники и кровли, крытые соломою и дранкой, напоминали грибные шляпки.
Даже в избицу приходилось спускаться как в подполье, ибо она также осела, провалилась в землю.
Одолай уже родился в христианстве и даже с большою ревностью придерживался новой веры; строго соблюдал посты, уважал одаривать церковников, но с юных лет сохранил немало языческих воспоминаний и привычек, слившихся в его мозгу в странную путаницу религиозных верований, в которой он уже не различал новое от старого. Потому вера его слагалась из двух вероучений; он страшно боялся чар и злых духов, что, впрочем, не шло вразрез с христианством, и в то же время верил в наваждение и заговоры. Он любил слушать сказки о волхвах, ведьмах-лятавицах,[9] вилько-лаках,[10] лихе, извое,[11] лешем и прочей нечисти, да и сам знал их не мало. У него были очень точные познания о том, как можно сглазить и как уберечься от дурного глаза. Он немилосердно засекал старух, бывших в подозрении за волхование, особенно, когда коровы теряли молоко; и каждый раз получал потом обильные удои.
Челядь держал в чрезвычайной строгости и за провинности карал без жалости; но если к кому-нибудь привязывался, то уж благоволил без меры и верил безгранично. Несмотря на без малого столетний возраст (в точности никто не знал, сколько ему лет), старик был еще крепок, в полном рассудке и обладал прекрасной памятью. Бодрость поддерживал постоянной непоседливостью; днем спал редко; а ночью, пробудившись, сейчас же приходил в себя и знал что, где и как. Пока спал, Хыж и малец были при нем неотступно и не смыкали глаз.
Как-то раз весенним утром, когда солнце уже пригревало, Одолай с мальцом и Хыжем обходил, по обыкновению, свои владения. На валах он приостановился и прислушался.
Ветер дул со стороны далеких боров, и слышно было только его однообразное дыхание. Но чуткое ухо старца уловило что-то далеко за лесом: указав рукой туда, откуда шла, извиваясь средь полей, лугов и нив, проезжая дорога, он спросил мальца:
— Слушай, ты! Что там такое?