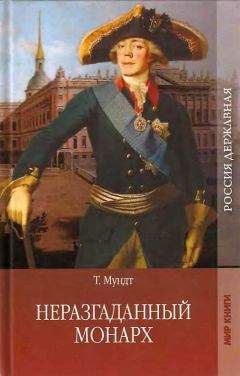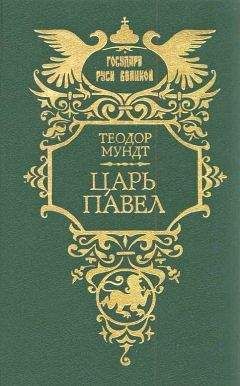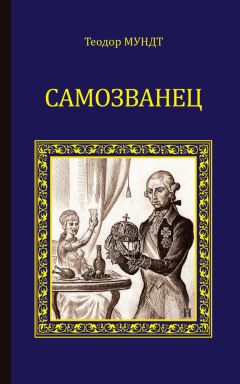В этот момент вошел смотритель, доложивший, что все меры приняты, вследствие чего генерал может сойти вместе с арестанткой во двор так, что их никто не увидит.
Через несколько минут Потемкин вместе с Зорич уже мчались по темным, пустынным улицам Москвы. Степаныч оказался благополучно здравствующим; он был очень рад вновь увидать своих старых клиентов и обещался сделать все по желанию Потемкина. Тогда последний с легкой душой отправился домой: все было сделано, больше не о чем было беспокоиться!
Дни пребывания в Москве быстро промелькнули в суете всяческих торжеств. Уже на следующий день после въезда императрицы московские власти в паническом ужасе принялись хлопотать над тем, как бы изгладить впечатление, произведенное на ее величество холодностью приема. Пришлось сгонять толпы парода, который за умеренную плату сторожил в разных пунктах проезд государыни и приветствовал ее восторженными возгласами. Духовенство тоже получило строжайшие инструкции, и когда в Успенском соборе в присутствии императрицы происходило торжественное богослужение, во время которого была освящена и воздвигнута принесенная собору в дар императрицей икона Богоматери, то митрополит московский произнес умилительную речь, которая должна была согнать последние следы недовольных морщин с чела императрицы. Митрополит говорил о том, что однажды Христос по своем воскресении явился среди учеников и никто из них не поверил в его явление, все погрузились в испуганное молчание, которое было нарушено дерзостным желанием одного из них удостовериться в действительности явления. И Христос нисколько не разгневался на это: Он понимал, что человек способен не поверить своему счастью, видя рядом с собой столь высокую особу. Нечто подобное было и при въезде, мол, ее величества: народ, который с трепетом ждал ее появления, не в силах был поверить, что его возлюбленная монархиня была с ним. Он так растерялся, так смутился от своего счастья, что застыл в трепете и страхе, и это лучше всего доказывает, насколько Москва ценит оказанную ей высочайшую милость. Митрополит призывал народ и впредь уважать в царствующей особе Бога, земным представителем которого является каждый венценосец. Словом, внешность была соблюдена, и императрица, слишком умная и проницательная, чтобы принять все это за чистую монету, делала вид, будто она вполне довольна.
Пред отъездом в Петербург императрица со всей свитой торжественно съездила в Троице-Сергиев монастырь, чтобы по традиционному обычаю поклониться славнейшей русской святыне. Богомолье сошло на славу; руководивший общим порядком Потемкин проявил чудеса распорядительности, и все сошло на диво, если не считать маленькой катастрофы с великой княгиней, чуть-чуть не стоившей жизни последней. По неосторожности ямщика сани раскатились и опрокинулись, но каким-то чудом Наталью Алексеевну выбросило в мягкий снег без малейшего вреда, так что она отделалась только испугом. Конечно, в том состоянии, в котором была великая княгиня, даже слабый испуг и легкий толчок могли быть гибельны, но рука Провидения пока еще хранила молодую женщину.
Однако на обратном пути последствия всего этого стали сказываться: у великой княгини появились сильные боли, и следовавший в свите врач доложил государыне, что возможно наступление преждевременных родов. Потемкин нахмурился, потемнел; он отвел врача в сторону и заявил ему, что нужно во что бы го ни стало предупредить роды, задержать их: в пути, дескать, очень неудобно, высочайшая роженица не будет иметь возможности пользоваться надлежащим уходом и т. д., и т. д. Во всяком случае, если врачу удастся задержать наступление родов до возвращения в Петербург, то он будет щедро награжден, ну а не удастся, так пусть не прогневается!
Врач пожал плечами и обещал сделать все возможное, но добавил, что ему едва ли удастся надолго задержать роды, если предродовой процесс действительно начался, что во всяком случае надо спешить и мчаться в Петербург что есть силы.
Действительно, императорский кортеж понесся во весь дух. Сколько лошадей пало на пути! Сколько раз императрица со стоном заявляла, что она не в силах ехать далее безостановочно. Но Потемкин твердил «так нужно» и продолжал гнать ямщиков, что называется, «в хвост и гриву».
Врач ошибся. Роды были близки, но не предстояли непосредственно. В Петербург прибыли благополучно, и сейчас же по приезде великая княгиня слегла. Врачи растерянно разводили руками: с одной стороны, роды как бы начинались, а с другой, как бы и не начинались. Во всяком случае, надо было быть готовым ко всему.
В это время настроение великого князя по отношению к супруге как-то сразу изменилось к лучшему. Ее страдания глубоко трогали его, он ломал руки в страстной жажде найти средство облегчить ее муки и окружал ее самой тщательной внимательностью и заботой.
Великая княгиня неоднократно широко раскрывала глаза, встречая заботливую ласку мужа. Иногда, когда он присаживался к ней на кровать, она брала его за руку и погружалась так в забытье. И в эти минуты ее лицо, обыкновенно столь грустное, полное мрачных предчувствий, прояснялось и смягчалось.
Во всю свою жизнь в России Наталья Алексеевна не испытывала такого тихого счастья, как теперь, и в ее взгляде великий князь не раз читал немой вопрос:
«Почему ты прежде не был таким? О, как счастливы могли бы мы быть!»
Одно только терзало великую княгиню — это присутствие у ее больного ложа какой-то высокой, худой женщины с мрачным взглядом дико блещущих глаз. Эта женщина была очень молчалива, услужлива, внимательна, но великая княгиня начинала дрожать с ног до головы каждый раз, когда сиделка подходила ближе к ней.
И ничего нельзя было поделать: эта женщина была приставлена к высочайшей роженице как специалистка-акушерка, изучившая это дело за границей и славящаяся своим искусством. К великой княгине ее привел сам лейб-медик императрицы и рекомендовал ее в самых лестных выражениях.
Но с того дня, как акушерка появилась около великой княгини, состояние здоровья последней резко ухудшилось. Боли, слабые и терпимые прежде, теперь доходили до конвульсий, и несчастной Наталье Алексеевне зачастую казалось, что она не выдержит страданий и умрет от муки.
Наконец однажды вечером у великой княгини поднялись такие адские боли, что она кричала не своим голосом. Акушерка Елизавета Зорич сейчас же склонилась к ней, подала ей питье, произвела ряд каких-то таинственных манипуляций, и боли стихли, словно по волшебству.
В дальнейшем повторялось то же: боли быстро утихали под опытными руками Зорич, но каждый такой приступ заметно уносил силы молодой женщины. Она худела и бледнела не по дням, а по часам, и вскоре только глаза напоминали былую красавицу Вильгельмину.
Однажды вечером великий князь, просидевший близ больной супруги почти целые сутки безотлучно, по ее настоятельной просьбе ушел в соседнюю комнату, чтобы на несколько часов отдохнуть там. Наталья Алексеевна осталась наедине с акушеркой, которая сидела на краю ее постели, сторожа малейший приступ боли.
Наталья Алексеевна задумалась и незаметно закрыла в дремоте глаза. Когда она снова открыла их, то Зорич продолжала сидеть на прежнем месте, но великой княгине показалось, будто она стала не так высока и гораздо полнее, чем прежде. В полусумраке лица, обращенного в тень, не было видно. Но странный, упорный блеск глаз сиделки проникал в самый мозг больной, вызывая в нем какие-то странные, почти бредовые впечатления.
Великая княгиня испуганно вгляделась в эти глаза и вдруг с криком полуприподнялась на кровати: ей показалось, что это не акушерка, а сама императрица. Наталья Алексеевна протерла глаза, еще внимательнее всмотрелась в неподвижную фигуру и с слабым стоном упала на подушки: не могло быть сомнений, сама императрица во время дремоты больной поменялась с акушеркой местом.
Не будучи в силах вынести этот полный угрозы взгляд, великая княгиня закрыла глаза и замерла в слепом ужасе.
Императрица заговорила тихо, холодно, властно:
— Я пришла сюда, чтобы справиться о здоровье вашего высочества и воочию убедиться, действительно ли страдания вашего высочества так велики, как мне рассказывали. И в награду за свою материнскую заботливость я встречаю упорное нежелание замечать меня, нежелание быть хоть просто вежливой и воспитанной!
Вместо ответа великая княгиня широко открыла глаза и посмотрела на императрицу открытым, ясным, но полным грусти и сильного страдания взглядом. И этот чистый, твердый взгляд, это лицо, еще недавно цветущее, а теперь словно сорванное со старинной иконы великомученицы, смутили императрицу, заставили ее на мгновение отвернуть глаза в сторону.
Но она скоро оправилась, вновь перевела взор на больную и продолжала все тем же надменным тоном: