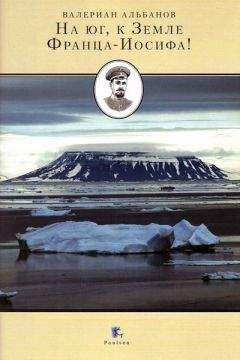В первый же день к Насте прямо, без дверей, из угла горницы, вышел, приплясывая, покойный Клементий. На лице его играла странная улыбка. Настя бредила, не сознавая окружающего, а тут вспомнила, что Клементий уже умер, но не испугалась. Она забыла, что она сама его убила. Зачем на нем такая яркая, малиновая рубаха? Казак подскочил к Насте и стал ее жарко обнимать и целовать. Ей это было совсем безразлично. Но вот он сказал: «Ведемка ты моя кудлатая!» — от этих слов Насте вдруг стало чего-то страшно жаль. Захотелось заплакать. В это время в горницу с потолка соскочил, как сайгак, и начал с хохотом кружиться, плясать бышеньку молодой казак, за ним еще один. Это были Вязов и Ноготков. «Они несли гроб», — подумала равнодушно Настя. Казаки играли в чехарду, смеялись весело и громко, но Насте смех казался странным, ненужным, нисколько не заразительным. Она чувствовала себя совсем им посторонней и размышляла: «Вот еще недавно в поселке все были свои, родня. Тепло было. Теперь все чужие. Сторонятся, боятся соседей».
— Амансызба! (Здравствуй!) — закричал ей на ухо Клементий, и она ответила ему так же по-киргизски:
— Аман! (Здорово!)
Она уже ничего не помнила из прошлого, успела забыть свою недолгую жизнь. Она не помнила, что Клементий был ее женихом и что вот-вот и она стала бы его женой. Она теперь не ощущала к нему ни любви, ни ненависти, но в то же время ей было с ним сейчас очень хорошо. Светло, легко и немного грустно, — так девочкой она смотрела, как падал с неба первый погожий снег.
Десять дней Настя была не в себе. Порой она как будто бы приходила в сознание, говорила с окружающими, но все, что она говорила и делала, все это было лишь бредом, за исключением ее просьб напиться. Она вдруг как бы перестала понимать русскую речь. Со всеми говорила исключительно по-киргизски и капризно требовала, чтобы и с ней говорили так же. Она для себя стала несомненно «шинае казах кыз» — природной киргизской девицей. Никто раньше, даже из своих, не предполагал, что она так хорошо может говорить на чужом языке. Мать несколько раз подводила к ее постели Асан-Галея, потому что-сама не все могла у нее понять.
Бредовые видения больной первые дни были в большинстве случаев приятны. Ей снились золотые караваны верблюдов. Сама она ехала на белом айыре — двугорбом красавце — по золотым степям облаков. Потом она плыла в золотой бударе к нежно-оранжевому морю, в неведомую, блаженную страну. Она говорила теперь подолгу с Клементием. Он оказался одетым уже в голубой парчовый бешмет, и беседы их были необычайны и чудесны. Тихое, сладкое безумие лаской блаженства разливалось по Настиному телу, до последнего нерва, до последней частицы ее полубезумного теперь существа. Это было непередаваемое состояние счастья и — в то же время — безразличного отношения к окружающему.
— Аман-ба, Клема! Аман-ба, менем жаксым! (Здравствуй, мой хороший!)
Настя светло смеялась, махала руками, погоняя своего белого верблюда. Верблюд широко шагал по облакам, и Настя видела самое себя верхом на нем, меж мохнатых его горбов. Она улыбалась Клементию, ехавшему рядом, чувствовала необычайную близость к нему, сердечнейшее чувство, никогда не посещавшее ее в настоящей жизни и нисколько не похожее на отношения жениха и невесты. Это чувство было несравненно выше всех чувств, знакомых Насте.
— Бул жол кайда барады? (Куда эта дорога?) — спрашивала она Клементия, и он смеялся ей в ответ, и в этом смехе был такой простой и ясный смысл: ехали они в страну нескончаемого блаженства и счастья…
На пятый — шестой день ее сны стали тяжелыми, мучительными. Она стала бояться темноты и никак не могла уйти от нее. Днем она умоляла Василиста, Лушу:
— Карангы! Туган дар! (Темно родные, зажгите лампу!)
Но лампа ее не успокаивала. Настя плакала от тоски перед идущей на нее вечной ночью.
На десятый день она увидела в бреду речонку Ерик, какой она была в ночь убийства Клементия — черной, смутной, закрытой камышами. На средине реки раскачивалась чудовищно большая, черная бочка, а на бочке сидела голая безносая баба с толстыми ножищами и утробно хохотала. Потом Настя сама очутилась в воде, ноги проваливались в тину, Настя захлебывалась и никак не могла выбраться на сушу. Ей под руки попадались человечьи отрубленные ноги, головы, пальцы. Это было ужасно… Это продолжалось очень долго. Наконец Настя с облегчением увидала впереди покойную свою бабушку. Та стояла на берегу под высоким осокорем и держала, как ребенка, в обнимку пук золотистого сена. Бабушка манила Настю пальцем:
— Кель бере, кара сулу! (Поди сюда черная красавица!)
И тогда Настя вспомнила, что бабушка уже давно умерла. Ей стало страшно. Она поняла, что она и сама умирает. Необычайная жалость, любовь к себе пронизала ее до глубины души. Она заплакала. Плакала она на самом деле — горько и безутешно, но почти беззвучно. Все лицо ее стало мокро от слез. На один короткий миг, сквозь сердечную тоску и страх, вспомнилась ей ясно-ясно, как будто бы она вот сейчас успела пережить ее снова — вся ее короткая, незатейливая жизнь. Какой она показалась ей чудесной! Настя почувствовала, что впереди темнота и мрак без конца, а здесь на земле остаются солнце, цветы, степи, брат, сестренка Луша, кони, луга, пляска, песни, любовь, — как это было мало при жизни и каким большим стало теперь! Какими милыми, дорогими вспомнились ей все живые люди и каким прекрасным встал вдруг ею же убитый, кудрявый, песик шершавенький, русый Клемка! Она плакала о жизни, будто ребенок о разбитой игрушке. Ее никогда уже не вернуть!..
И вместе с этим больнее всего было оставлять здесь, на земле свою чайную чашку с рисунком голубой курицы и желтыми цыплятками на зеленом поле. Да, да, так горько расставаться с ней навсегда — и с чашкой, и с голубой клушкой!
Мать услышала ее рыдания, по-мышиному тонкий, жалобный писк, и подошла к ней, положила тихо руку на ее горячий лоб:
— Доченька, что с тобой?
И впервые за время болезни Настя не возмутилась русской речью, ответила сквозь слезы:
— Мен улем. (Я умираю.)
Под утро Настя замолкла, вытянулась и больше не пошевелилась.
Зима была на удивление бесснежной и сухой. Прошла она для соколинцев тяжело. В поселке ни на минуту не прекращалось беспокойство. С молотка продавали остатки имущества несогласных. Семью Алаторцевых разорили вконец. На дворе остались только плетни да разная рухлядь. Правда, самый дом и до сих пор выглядел как лучший в поселке, самый приметный и большой, но в доме было пусто и тихо, особенно после смерти Насти… Давно ли Василист скакал по степям на лихих конях, осматривая гурты скота, сотнями гоняя баранов на Калмыковскую и Уильскую ярмарку? Давно ли мчался он в пышношерстном волчьем тулупе вместе с отцом и дедом в лютые морозы на багренное рыболовство? Поскрипывали легкие крашеные санки на заворотах, когда Алаторцевы неслись, сломя голову, никому не уступая дороги и в озорстве ломая багры станичников, привязанные к оглоблям. И разве был хотя бы один такой случай, чтобы они приходили к багренным рубежам не в первом десятке отчаянных казаков? А теперь у них во дворе бродит одна буланая лошаденка да пяток мелкого скота. Асан-Галею давно уже нечего делать, но куда уйдет он, не имеющий на свете пристанища и родни? Он по-прежнему копошится на опустевшем дворе, поцокивая сочувственно языком.
Казалось часто соколинцам, что начинается светопреставление. Но земля продолжала крепко стоять на трех китах, и киты не шевелились.
Пришла снова весна. Была она на этот раз тихой и малозаметной. Птица летела вразброд, не останавливаясь на Урале. Река почти не выходила из берегов. Луга остались без воды.
Василист метнулся в город. Решил повидать отца и дядю, узнать об их судьбе. В Уральске было еще постыднее и страшнее. Вот когда Василист, а с ним и другие станичники узнали, что они не одни живут на свете и что казачья воля давно уже стала миражем, горьким обманом, полынь-травою! Они узнали, что мир не такой уж маленький и что помимо Уральской области и кроме атамана есть куда более жестокие силы, готовые переломить любой непокорный хребет. Да, кончалась для казаков теплая жизнь в закутке, обрывались веселые бродяжничества в бездорожной, от века немежованной степи. Приходилось и им приглядываться к тому, как живет остальная Россия и чего она хочет от яицких старожилов.
Василист впервые увидал город. Издали он показался ему веселым, зеленым от чаганских садов, золотоглавым от церквей, огромным, где хватит места для всех казаков. Но вблизи он походил сейчас на тюрьму. Из окон казенных, краснокирпичных зданий повсюду глядели длинные бороды стариков, и даже на Василиста их глаза смотрели с угрюмой злобой. В городе не хватало мест для арестованных. Каждый день из степей солдаты приводили новые партии непокорных казаков и каждый день гнали их дальше — в Оренбург, Саратов. Пороли на глазах населения плетьми. Совершали над арестованными гражданские казни: брили левую сторону головы, читали позорные приговоры, ставили на срамной столб. Отовсюду, куда ни повернись, со стен смотрели грозные бумажки, подобные той, какую на сходе показывал соколинцам веселый поручик. В газете «Уральские войсковые ведомости» публиковались приказы наказного атамана, где по высочайшему повелению казаки сотнями исключались из рядов Яицкого войска.