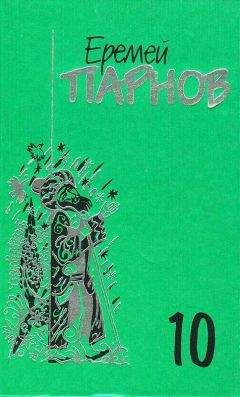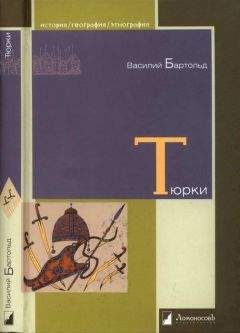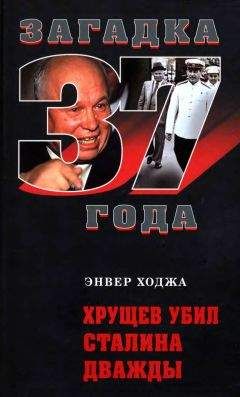— Мне так рассказывали! — стоял на своем меняла. — А еще рассказывали, что сам пророк Мухаммед вдохновил его на этот поход. Явился во сне и велел идти спасать ислам. И будто в Ташкенте, в соборной мечети Джами, которую построил святой шейх Ходжа Ахрар, слышали голос пророка…
— И что сказал наш великий пророк? — спросил нетерпеливый хозяин.
— А сказал он, что правлению нечестивого Улугбека пришел конец.
— А откуда известно, что это говорил сам пророк? — спросил недоверчивый рыбник.
— Уж, наверное, известно! — оборвал его меняла.
— Это так. Там все известно, — согласился хозяин.
Продавец мантов еще пуще задергался, печально закивал головой.
Игра сегодня явно не клеилась. Да и пора было расходиться по домам. В соседних лавках уже давно погасли масляные огни. Первым ушел меняла, ему было идти дальше всех.
Постукивая посохом и прижимая рукой пояс с деньгами, осторожно пробирался он темными кривыми улочками, мимо глухих глинобитных стен и запертых дверей. Стены казались густо-синими, как небо, только потемнее, конечно, а земля под ногами была черна, как горная смола. В непроглядной тени переулков мерещились всякие страхи. Меняла клялся Аллаху никогда больше не засиживаться до темноты.
Когда вышел на открытое место, чуть перевел дух. Уже светился в ночном небе купол «Гур-Эмира», и было рукой подать до мавзолея Рухабад и ханаки, за которым начиналась тенистая улица, где под старым абрикосом стоял его дом.
— Живешь в одном месте, — ворчал он, постукивая посохом, — контору держишь в другом, а в гости ходишь к самому базару? Что за жизнь такая пошла? И ограбить могут, и убить…
И словно в подтверждение самых страшных его опасений раздался пронзительный крик:
— За что? За что? Что я такого сделал? — кто-то истошно кричал, совсем рядом.
Меняла быстро юркнул в тень маленькой старой мечети и притаился в арке, всем телом прижавшись к нагретым за день изразцам.
Человек продолжал кричать, но крики его заглушила чья-то сердитая ругань, шарканье и тяжелый шелест и скрип, будто волочили по земле мешки.
«Наверное, тащут кого-то, а он упирается», — догадался меняла и еще глубже ушел в спасительную темень айвана.
Наконец, он увидел двух стражников, которые, путаясь ногами в свисающих до земли саблях и гремя щитами, с проклятиями волокли за руки арестанта. Ноги несчастного подгибались в коленях и тащились по земле. Все было так, как представилось это меняле.
«Значит, есть за что, — удовлетворенно подумал он. — Может, разбойника поймали, который нападает на ночных одиноких прохожих».
Таких разбойников, а еще лихих грабителей, срывающих замки с дверей контор и лавок, он больше всего боялся и ненавидел.
На шум, позвякивая доспехами, прибежал из соседней улицы еще один ночной дозор.
«В глухие края города небось не ходят, — подумал меняла. — Все здесь собрались, где просторно и тихо. Дармоеды проклятые. Ишь какие шеи отъели, все равно как у почтенного рыбника!»
В дозоре было трое: впереди в богатой шелковой чалме и с одной только саблей, наверное, начальник, сзади два стражника при саблях и щитах. Один из них нес сильно чадящий факел. В красноватом мятущемся свете могучие шеи стражников и впрямь казались налитыми кровью.
— Что тут у вас происходит? — строго спросил начальник стражников, которые волокли человека.
— Да вот тут, господин… — начал было один, но голос его перекрыл новый отчаянный вопль.
— А ну замолчи! — рявкнул начальник. — Не то тебе тут же отрубят башку.
Человек сразу замолк и только икал, тихонечко подвывая.
— Он говорил, если сын встает на отца…
— Замолчи! — остановил стражника начальник. — Потом расскажешь, что он говорил.
— И еще он говорил, что сиятельный хаким Мираншах… — рвался высказаться дозорный.
— Я сказал — потом! — вновь оборвал его начальник. — Вы все правильно делаете. Незачем только шум поднимать. Ведите его! А ты им помоги, — обернулся он к одному из своих.
Втроем стражники быстро управились с задержанным и, заломив ему за спину руки, уже не потащили, а повели к Синему дворцу в караулку.
Когда все прошли мимо арки, в которой таился меняла, тот увидел освещенное факелом лицо задержанного и узнал кроткого, улыбчивого Махмуда-сундучника, у которого не далее, как на прошлой неделе, заказал новый, обитый железом сундук, с особым запором.
«Не видать мне теперь моего сундука», — подумал меняла и хотел уже выйти из арки, чтобы продолжить путь. Но тут он услышал тихие шаги и юркнул обратно.
Мимо прошел человек с книгой под мышкой — не то мулла, не то ученик медресе, а может, и писец. По тому, как он крался за стражниками, уведшими несчастного Махмуда, догадливый меняла смекнул, что у него в этом деле свой интерес.
«Да, лихие наступают времена», — вздохнул про себя меняла, и, когда стихли крадущиеся шаги в переулке, посох его снова застучал по растрескавшейся от сухости и жары каменной глине.
В мир пришел я, но не было небо встревожено.
Умер я, но сиянье светил не умножено.
И никто не сказал мне — зачем я рожден
И зачем второпях моя жизнь уничтожена?
Омар Хайям
Улугбек не спешил. Поредевший отряд его далеко растянулся по дороге. Чтобы дать отдых своему ахалтекинцу, он пересел на вороного араба. Высокое, обитое сафьяном персидское седло с острой лукой, ковровый чепрак и серебряная чеканная сбруя — последние отличия повелителя Мавераннахра от любого из его нукеров. А так все, как у них: пропыленная одежда, черное от грязи и копоти лицо.
Почему не спешил Улугбек, когда в любую минуту враг мог отрезать ему дорогу к последней крепости? Почему резвый скакун мирзы шел шагом, а не летел рысью, почему боевые кони воинов неторопливо и мерно мотали головами, словно водовозные клячи?
Кто знает…
Быть может, усталые люди дремали в седлах, а мирза хотел дать им хоть такой недолгий и обманчивый отдых? Или хотел он, чтобы отдохнули кони, которые тоже устали скакать?
Но вернее всего, что просто оттягивал Улугбек неизбежный конец невеселого этого бегства. Сердцем уже не верил ни во встречу с Камилем, которому послал приказ идти к Шахрухии, ни в саму Шахрухию… Что эта крепость без войска Камиля? Она не выдержит долгой осады и падет, а то еще и выдаст его, Улугбека, врагам, чтобы спасти свои стены.
Остановились у колодца с мутной солоноватой водой. Сначала напились сами, потом стали поить лошадей. Улугбек слез с коня и, чтобы немного размяться, решил пройтись. Сквозь поредевшие ветви саксаула виднелись серые холмы какого-то заброшенного городища.
Ветры обнажили кое-где цветные черепки, редкие бусины из бирюзы и сердолика. Шест с посеревшим от времени белым флажком указывал святое место. В проломах куполов колыхались сухие метелки тростника, среди осыпавшихся стен бегали черные, как камни пустыни, бескрылые жучки. Известковые шары скарабеев. Пыльные ящерицы, исчезающие вдруг в бесчисленных дырах и трещинах.
Вот где по-настоящему запахло безнадежностью. Когда-то кипела здесь жизнь. Люди пекли лепешки, враждовали, молились, укрепляли стены. Но пришел их час — и все исчезло. Они ушли и унесли с собой свой маленький мир. Но что-то осталось, пережило их и теперь медлительно и сонно умирает под солнцем, ветрами и редким, очень редким дождем.
Из-под камня, на который ступил Улугбек, сонно вытекла черная мутная струйка и пропала в колючих кустах. И только шорох, печальный и тихий, остался в ушах.
— Осторожно, отец! Змея! — испуганно крикнул царевич.
Улугбек обернулся. Оказывается, Абдал-Азиз тихо следовал за ним в этой странной прогулке по серым холмам, которые постепенно обретали черты гениального хаоса мертвой природы.
— Не бойся, мирза. Змеи жалят, если на них наступают ногой. Они не устраивают засад и не выпрыгивают из тайных укрытий. Змеи просто уходят, когда их потревожат, не вступая в борьбу ни из-за жилища, ни из-за земли. Но когда мы уйдем, эта змея возвратится на свое место. Она просто умеет ждать, мирза… Пойдем назад. Пора ехать, и надо спешить. Смертным не дано возможности оттягивать встречу с судьбой… Вели подтянуть подпруги и проверить оружие, мирза. Нам не уготовано право увидеть заранее даже песчинку из тех строений, которые небо выстраивает на нашем пути. Так будем же готовы ко всему. Пойди, распорядись…
Абд-ал-Азиз поклонился и сбежал с осыпи, бывшей когда-то стеной городища.
Что-то приоткрылось вдруг в сознании Улугбека, но сейчас же захлопнулось, и он не успел даже понять, что это было. Может быть, приблизился он в тот миг к пониманию смысла тех неумолимых законов, по которым создаются и рушатся города? Или был близок к отгадке той жестокой и однообразной шутки, которой вот уже столько веков забавляется небо?
Просто что-то мелькнуло и тут же исчезло, потому что мысли исчезают, как озера и пальмы, которые возникают вдруг в пустыне перед изумленными глазами караванщиков. И тут же пришли на память строфы Хайяма, о котором все чаще и чаще думал теперь Улугбек: