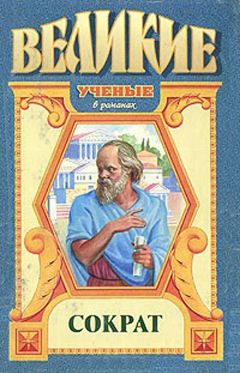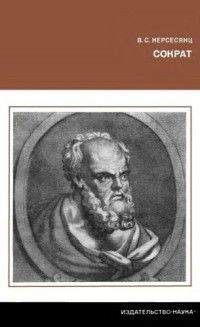— Надо, — ответил Продик. — Надо, чтобы боги видели нашу любовь к Фидию, нашу проницательность, наше желание познать истину и утвердить справедливость.
— Пусть так, — сказал Еврипид. — Но скажи мне, Продик, чем смерть по прихоти злодея хуже смерти по воле Бога? Если не хуже, то злодея казнить нельзя. А если его всё же казнят, то, значит, не за само преступление, не за убийство, а за то, что он совершил его не по воле Бога. Если же смерть от руки злодея хуже смерти, дарованной Богом, то смерть смерти рознь и нам следует страшиться её в любом случае, так как мы не знаем, по чьей воле она пришла, хорошая это смерть или плохая.
— Смерть от руки злодея болезненна, тогда как смерть по воле Бога приходит, как сон, — сказал один из проснувшихся поэтов.
— Нет, — возразил Продик. — Смерть от выпитого яда, поднесённого злодеем, приходит без мук. Не здесь различие. Различие в том, что одну душу Бог ожидает, а другая приходит неожиданно, когда у Бога другие дела на очереди. Неожиданная душа — как нежданный гость: доставляет неудобство и себе и хозяину, хотя в конце концов всё образуется. Смерть смерти равна.
— Значит, Продик, мы казним злодеев не за сами преступления, а за нарушение божественного порядка. Так?
— Так.
— А когда мы казним злодеев, то не нарушаем ли мы тем самым божественный порядок? Разве, назначая казнь, мы ждём божественных знаков или приказаний?
— Это право нам дано в законах государства.
— Прекрасно! Стало быть, мы убиваем злодеев по воле богов. То есть злодеи умирают смертью, дарованной богами. Смертью, которой боги награждают своих любимцев. Но вот получается, мой мудрый Продик, — печально улыбнулся Еврипид, — что все злодеи — любимцы богов.
— Нет! — закричал Продик, соскочив с ложа и замахав руками. — Я этого не говорил!
— Он этого не говорил, — поддержал Продика Сократ, посмеиваясь в душе над тем, что Продик, самый искусный спорщик в Афинах, допустил в своих суждениях оплошность и тем позволил Еврипиду, поэту, одержать над собой верх. — Он этого не говорил, — повторил Сократ. — К тому же и быть такого не может, чтобы злодеи были любимцами богов. Если боги и даруют злодеям смерть через законы государств, которым они покровительствуют, то не для того, чтобы принять злодейскую душу в объятия, а для того, чтобы ввергнуть её в Тартар. Тех, чья жизнь была истерзана злодеяниями, Эринии ведут через Тартар к Эребу и Хаосу, в обитель нечестивцев, где Данаиды бесконечно черпают воду и наполняют ею бездонный сосуд, где мучится жаждой Тантал, где пожираются внутренности Тития, где Сизиф безысходно катит в гору свой камень, так что конец его труда оборачивается началом новой страды[80]. Там они, облизываемые дикими зверями и обжигаемые пылающими факелами Пэн, мучимые всевозможными истязаниями, терпят вечную кару.
Скототорговец Лисикл, слушавший Сократа со вниманием, вдруг разрыдался и упал лицом в подушку, что вызвало у присутствовавших лишь весёлый смех — кто сочувствует пьяным слезам?
— Те же, кому в жизни сопутствовал добрый гений, — продолжил Сократ, поощряемый улыбкой Аспазии, — поселяются в обители благочестивых душ, где в изобилии созревают урожаи всевозможных плодов, где текут источники чистых вод и узорные луга распускаются многоцветьем трав, где слышны беседы философов, где в театрах ставятся сочинения поэтов и пляшут киклические хоры, где звучит музыка и устраиваются на свой собственный счёт славные пиршества и совместные трапезы, где беспримесна беспечальность и жизнь полна наслаждений. Там нет ни резких морозов, ни палящего зноя, но струится здоровый и мягкий воздух, перемешанный с нежными солнечными лучами. Гесиод называл это место Полями Блаженных, а Гомер — Елисейскими Полями.
Аспазия захлопала в ладоши. Еврипид же, сморщив лоб и нахмурив лохматые брови, спросил:
— Ты ведь не сам всё это видел, Сократ?
— Не сам, — ответил Сократ. — То, что я сказал, только отзвуки речей Продика. Первое из этого — про Тартар — куплено за полдрахмы: Тартар, думаю, большего не стоит. Другое — за драхму: всё же не вонючий Тартар, а благоухающие Елисейские Поля.
Продик метнул в Сократа злой взгляд, но промолчал. Сократ же продолжал:
— Я думаю, что Продик почерпнул эти сведения не из личного опыта, так как ни в Тартаре, ни на Елисейских Полях не был, а у Гесиода, Гомера, Пиндара[81]. Они же в свою очередь получили их от ещё более древних авторов. И оттого, что мы их теперь повторяем, они не становятся пи истинными, ни ложными. Кто-то когда-то сказал — вот и вся их цена. Более достойно повторить за мудрецами древности другое: я знаю лишь то, что ничего не знаю. Да и что может прельстить нас на Елисейских Полях или испугать в Тартаре сверх того, чем прельщает и пугает нас жизнь?
— А вот здесь ты прав, — сказал Продик. — Нынешнее наше пиршество вполне сравнимо с тем, какое обещано благочестивым на Островах Блаженных. А земные наши страдания так сходны со страданиями несчастных в чёрных безднах Тартара. Ответьте мне, какой возраст, какой образ жизни или какое ремесло свободно от тягот и печалей? Не плачет ли младенец с первого мига рождения, начиная свою жизнь с муки? Когда же ему исполнится седьмой год, он, претерпев уже много невзгод, попадает в руки тиранов — наставников, учителей грамматики и гимнастики. А по мере взросления его окружает целая толпа повелителей — ценители поэзии, геометры, мастера воинского дела. После того как его вносят в списки эфебов, страх одолевает его ещё пуще: здесь и Ликей[82], и Академия, и гимнастическое начальство, и розги, и бесчисленные другие беды, и за любым усилием подростка наблюдают воспитатели и выборные лица от Ареопага, присматривающие за юношами. Когда же молодой человек избавляется от всех этих повелителей, подкрадываются и встают во весь рост заботы и размышления, какой избрать жизненный путь. И перед лицом этих более поздних трудностей детские страдания кажутся несерьёзными, пугалами для младенцев — все эти сражения, непрерывные состязания и увечья. А потом незаметно подступает старость, и ко времени её наступления в нашем естестве скапливается всё тленное и неизлечимое. Так что если кто не расстанется поскорее с жизнью как должно, то природа, подобно мелочной ростовщице, живущей процентами, берёт в залог зрение или слух, а часто и то и другое. И даже если кто выдержит, всё равно бывает надломлен, изнурён, изувечен. Вот и Ахилл у Гомера сказал:
Боги такую уж долю назначили смертным бессчастным -
В горести жизнь проводить.
В другом же месте Гомер говорит:
Меж существами земными, что ползают, дышат и ходят,
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека.
Да вот и наш Еврипид советует «оплакивать младенца, что вступает в юдоль бед».
— Да, да, — поднял руку Еврипид, — Это я сказал.
Продик, оправившийся от недавнего поражения, продолжал с ещё большим воодушевлением:
— А теперь, друзья, давайте бросим взгляд на ремесленников и подёнщиков, тяжко трудящихся от зари до зари и едва обеспечивающих себе пропитание, они плачут горькими слезами, и их бессонные ночи заполнены сетованиями и причитаниями. Возьмём ли мы мореходов, преодолевающих столько опасностей, они не находятся, как сказал Биант, ни среди живых, ни среди мёртвых. Быть может, приятное занятие земледелие? А не есть ли оно, как говорят, скорее незаживающая язва, вечно дающая повод для горя? Ну, а высокочтимое искусство государственного правления — многое другое я обхожу молчанием? Через какие только оно не проходит бури, испытывая радость от всесотрясающей лихорадки законов и болезненно переживая неудачи более тяжкие, чем десять тысяч смертей! Кто может быть счастлив, живя для толпы, ловя её прищёлкивания и рукоплескания, — игрушка народа, которую тот просто выбрасывает, освистывает, карает, убивает и делает достойной сострадания? Скажите мне, где умер Мильтиад, победитель персов при Марафоне[83]? Он умер в тюрьме после несправедливого приговора. Где Фемистокл, создатель флота и победитель персов при Саламине? Он умер в изгнании. Где Эфиальт, друг Перикла, укротивший Ареопаг? Он убит! Где Фидий? Как чувствует себя Перикл?
— Продик, это речь для Пникса, — сказала Аспазия. — Мы согласны, что наши радости и страдания при жизни не меньше и не больше тех, что ждут нас после смерти в Аиде. Что же из этого следует? Не то ли, что жизнь и смерть одно и то же? Впрочем, как уже было сказано, мы знаем лишь то, что есть жизнь. А что есть смерть? Кто скажет об этом? И вот мы после стольких разговоров находимся там же, где были вначале.
— О, как ты права, моя госпожа! — заворочался на своём ложе Лисикл. — Пусть лучше девушки нам спляшут и споют.