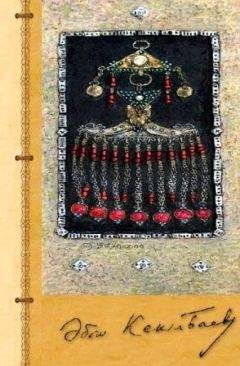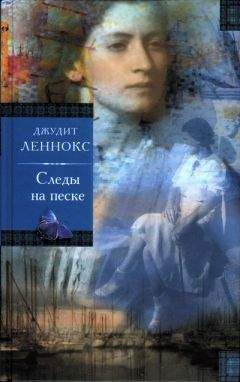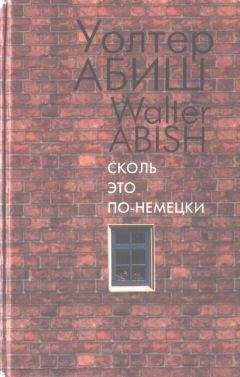Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалилась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, притаившееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, обрамленное дрожащей синеватой полоской.
Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грозная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издалека неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему, что простор, стремительно надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены…
Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. Лишь на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повелителя, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в той манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезли, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило его в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим равнодушием пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает. Радостная надежда, которой он жил всю эту неделю, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж… из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он столько радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы… Одни муки достались на его долю.
Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымащивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хоть и вознесся горделиво над землей, однако до поднебесья так и не дотянулся.
На стены минарета он поднимался с трудом, задыхаясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.
И работа как-то разладилась, мастерок валился из рук. Дни тянулись утомительно-бесконечно. Солнце, казалось, стояло на привязи. За городом, разморенная зноем, дремала бурая пустыня. И город точно вымер, окаменел. На улочках внизу не видно живой души. Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко. И даже на самой вершине минарета не чувствовалось свежего дуновения.
Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом окрасило все в лиловый цвет спаленной травы — гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном.
Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Жаппар будто беспощадно барахтался в вязкой жиже. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед глазами нет-нет, да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Неприглядная в своей убогости лощина, где прошло его детство, родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли… Стройная, гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки кувшин. Его, Жаппара, кувшин…
Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его невзначай, встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее, пепельное небо.
Жаппар вспоминает только что промелькнувшие видения, родной кишлак. Почему он не остался там? Делал мы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно, кем ты проживешь свой короткий век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских минаретов? В конце концов, все они копошатся и суетятся ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И может выгадывает тот, кто ни на шаг не отрывается от земли живет себе, как предопределено самой судьбой, а не бросается очертя голову в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отчаянно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой душе выпадают одни лишь муки и страдания… Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике. Что он в нем нашел? На что надеялся? Лишь на полгода хватило его здесь. Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все ж у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?
Остался Жаппар… Только много ль радостей изведал? В том ли смысл и прелесть жизни, что попеременно оказываешься в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный, серый подол?
Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь простому, неприметному ремеслу, с каким худо-бедно прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, разморенном от зноя и покрытом пылью?!
Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неуемной страстью, устремился навстречу миражу-мечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опору в пустоте — напрасные потуги, безумная затея.
То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравлявших сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно спустился на две ступеньки. Странная, зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок, и будто уплывали из-под рук, растворяясь в загадочной сутемени. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить. И вдруг в черном, жутковатом колодце под ногами неожиданно вспыхнул яркий свет; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга или столкнись в парении, и оба неминуемо сорвутся в мглистую пропасть. Странное видение чуть пошевельнулось, сделало еще один шаг к нему… По телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычные обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутина в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь между сном и явью, не в силах различить, где видение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда оно исчезло так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вдруг взялась эта дивная молодая фея в золототканых одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сыром, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея; просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты… Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми нитями, пытливо взирали на него большие, черные, как смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие, насурьмленные брови над ними, можно б было подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.