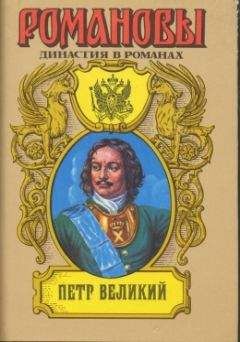И то, что она почувствовала и бесповоротно поняла, не поразило её и не взволновало. Так должно было случиться, надо было. Как будто шла она по знакомым улицам, мимо примелькавшихся людей и домов, и остановилась у родного крыльца. И всё, что было раньше, что встречалось в пути, бесследно позабылось, исчезло из памяти. Остались лишь она и тот, к которому шла безразличными, знакомыми улицами. И теперь не он, а она пойдёт за ним дальше. За этим худеньким человеком с синими глазами и бледным, вытянутым, точно скорбно удивлённым лицом, ласковым, как пробившийся из земли первый стебелёк травки, и близким, как и не отлучённый ещё от груди первенец.
Так думала, тиская в объятиях своих восемнадцатилетнего Фомку, тридцатилетняя женщина.
А Фомка в свою очередь уже твёрдо знал, что обрёл смысл жизни, и не сомневался в том, что правда там, где голос Родимицы, где горячий и полный любви её взгляд, где дурманящий запах шёлковых куделёк, выбившихся из-под белого платочка.
«Пусть! – жмурился он. – Пусть хоть на край света ведёт!»
Так думал Фомка, подменив суровую явь мечтой и веря мечте, как яви…
Светало, когда из овина вышли Родимица и стрелец.
– Так исполнишь, орлик мой степовой?
– Исполню, ласточка, все исполню, родимая.
Они расстались. В последний раз обернулись, приветливо кивнули друг другу.
Федора быстро зашагала по деревянным мосткам-обочинам улиц. Очарование ночи рассеивалось, отлетало. Одна за другой пробуждались дневные мысли, суетные заботы. Начинало беспокоить то, как встретит её царевна, узнав, что Матвеев остался жив. Свалить всё на трусость Фомки постельница не хотела, так как боялась обесчестить этим его перед Софьей, солгать же, что боярин проведал о злоумышлениях на него, было ещё опасней. А вдруг откроется неправда? Не сносить тогда головы ни Федоре, ни Фомке.
Так, ни до чего не додумавшись, постельница вошла в первую попавшуюся церковь, чтобы испросить доброго совета у Бога, а заодно очиститься от ночных, не освящённых брачным венцом, греховных деяний.
Однако страхи Родимицы были напрасны. Не успела она отстоять утреню, как с улицы донеслись странные шумы. Как будто откуда-то издалека рванулся неожиданный вихрь а по крышам домов и по земле покатилась тревожная барабанная дробь.
Федора выскочила на паперть.
Громыхая бердышами, копьями и мушкетами, стрельцы двигались под бой барабанов к Кремлю.
Из переулочков и тупичков, с перекрёстков и площадей как распущенные знамёна в передних стрелецких рядах, рвалось в воздухе и трепетало:
– К мушкетам! Не выдавай! На изменников!
Мчались конные, очищая путь стрелецким полкам. Иноземцы-начальники, крадучись, спешили к Немецкой слободе, подальше от гнева русских людей. Рейтары собирались растерянными кучками, наспех прикидывали, идти ли им с бунтарями или до поры до времени не принимать участия в мятеже. Работные, холопи и гулящие вольные люди с улюлюканием врезывались в полки, высоко подбрасывая бараньи шапки, скликали убогих идти ратью на Кремль, на всех вельможных людей. Монахи и языки рвали на себе одежды, в кровь царапали лица и, точно стаи голодного воронья, зловеще каркали:
– Царевич удушен! Извели Нарышкины Иоанна—царевича!
Но не эта весть ускорила начало бунта. Стрельцы поспешали на улицу потому, что боярин Матвеев не только слишком круто взялся за подавление крамолы, но, едва прибыв в Москву, посетил лютейшего стрелецкого ворога, мстительного и высокомерного начальника Стрелецкого приказа, князя Юрия Алексеевича Долгорукого, побратался с ним и с Языковым.
– Либо загодя троицу сию раздавить, либо трёхглавый сей змий нам смерть принесёт, – решили полки и пошли войною на Кремль.
Вскипела Москва набатными перезвонами, гневом и бесшабашною удалью. Стремительно катилась толпа на дрогнувшие кремлёвские стены.
– Выведем неправдотворцев и избивателей царского роду! – надрываясь, кричали убогие человечишки.
– Выведем семя Нарышкиных! – перекрикивали стрельцы.
Бунтари прошли Земляной город, вступили в Китай.
Полная искреннего возбуждения, Родимица ворвалась к царевне:
– Стрельцы ратью на Кремль идут!
Она хотела поведать и о многотысячной толпе убогих, примкнувших к стрельцам, но вовремя опомнилась.
– А Артамон? – пытливо уставилась на постельницу царевна.
– Всех ныне стрельцы распотешат! Будь спокойна, мой херувим!
Софья недовольно поджала губы.
– Всех, да не Матвеева! Увильнёт он не токмо что от пики стрелецкой, из геенны огненной выпрыгнет! – Но тут же покорно повернулась к иконам. – Да будет воля твоя! на тебя уповаю, тебя исповедую!
По кремлёвскому двору, позабыв о сане, жалкие и растерянные, метались бояре.
Только один Матвеев, как всегда, остался верен себе: был медлителен, строг и надменно-спокоен.
– Запереть Кремль! – распорядился он, посовещавшись с князем Фёдором Семёновичем Урусовым[58]. Фрол, ни на шаг не отступавший от Артамона Сергеевича, коснулся рукой кафтана боярина.
– Повели, володыка мой, мушкет мне подать. Хочу я в остатний раз царю и тебе послужить перед кончиной моей.
Растроганный боярин допустил стремянного к руке.
– Где уж, Фролушка, нам к мушкетам касаться! Ветхи мы стали…
Однако вынул из-за серебряного кушака турецкий, в золотой оправе кинжал и подал слуге.
– Коль лихо придёт, не дай мне смертью умереть от рук разбойных. Сюда, – он ткнул себя пальцем под лопатку, – токмо держи строго. Да не дрогнет рука твоя.
Фрол не только не ужаснулся словам боярина, но и преисполнился восхищения.
– Воистину, господарь ты и саном и духом!..
– Запереть ворота! Во-о-о-ро-та! За-переть! – протяжно перелетала команда с одного конца на другой.
Но было поздно. Стрельцы и толпы народа ворвались в Кремль и сами заперли все входы. Тотчас же был окружён царский дворец.
Бояре повскакали на коней и приготовились к обороне. Раздался залп.
– И вы?! – взбешённо закричали мятежники, увидевшие надвигавшуюся на них дворцовую челядь. – И вы против братьев, христопродавцы!
Сообразив, что с мятежом справиться невозможно, защитники Кремля отступили и попрятались в теремах, подземельях и приказах.
Ломая все на пути, неистово ругаясь и размахивая тяжёлыми бердышами, стрельцы облепили Красное крыльцо перед Грановитой палатой.
– Нарышкиных! Выдать головою Нарышкиных!
Взволнованный, без шапки и словно крайне поражённый происходившим, к смутьянам выбежал князь Хованский.
– Я ли то зрю сынов своих в деле богопротивном?
Стрельцы грозно шагнули к Ивану Андреевичу. На всякий случай он отступил к крыльцу. «А кат их разберёт, чего не натворят в сердцах смерды!» – И дружески улыбнулся Черемному и Фомке.
– Вы хоть старика ублажите да поведайте, какая пригода вас в Кремль привела?
Кузьма опустил бердыш и, подойдя вплотную к Хованскому, тоном, не допускающим возражения, объявил:
– Бояре учинились изменниками и норовят царский род извести. Пущай кажут нам Ивана-царевича!
– Пущай! – дружно подхватили остальные. На острой глади бердышей ослепительно загорелись солнечные лучи, больно резнув княжеские глаза.
Иван Андреевич торопливо пошёл к Нарышкиным.
– Выдь на крылечко, царица, – до земли поклонился он Наталье Кирилловне. – Узрят крамольники тебя живу да царя со царевичем, в себя взойдут и утешатся.
Царица заткнула пальцами уши и топнула ногой.
– Не пойду! Не стану смердам потворствовать.
Она пыталась скрыть за гордыми словами охвативший её животный испуг, но ей никто не поверил. Выкатившиеся глаза, белая, как обронённая на пол Петром машкера, лицо и щёлкающие, точно от жестокой стужи, зубы выдавали её с головой. Матвеев и патриарх поддержали Хованского.
– Правильно сказывает Иван Андреевич. Иного путя не осталось. Поздно кичиться перед стрельцами.
– Поздно! – повторил ещё раз Артамон Сергеевич и бессильно свесил руки. – Кабы был я тут с первых дней, не то бы, ох не то бы зрели мы ныне…
Наталья Кирилловна долго упорствовала, крепко обняв сына, не слушала уговоров. Шум на дворе возрастал с угрожающей силой. В окна полетели булыжники. Пётр прилепился к матери и горько всхлипнул.
– Сказывал я: отпусти на Преображенское, – не вняла… А мне боязно царствовать над стрельцами. Мне робятки любезней…
В сенях затопали десятки ног.
Матвеев смело подошёл к порогу и ногой открыл дверь. Перед ним, смертельно испуганные, остановились дьяки и несколько думных дворян.
– Грозятся полки: не покажется-де царица с царём да царевичем – весь Кремль разнесут!
Выхода не было. Царица сдалась. Хованский с Матвеевым пошли за Иоанном.
Завидев Артамона Сергеевича, Софья обняла брата и зарыдала.
– Не пущу на погибель братца!
Матвеев поглядел на царевну с едва скрытым презрением.
– Не тем ты покажешь верность и любовь царю Петру, что над братом слезу уронишь, а тем, что, выведя царевича перед смутьяны, от погибели избавишь весь царский род!