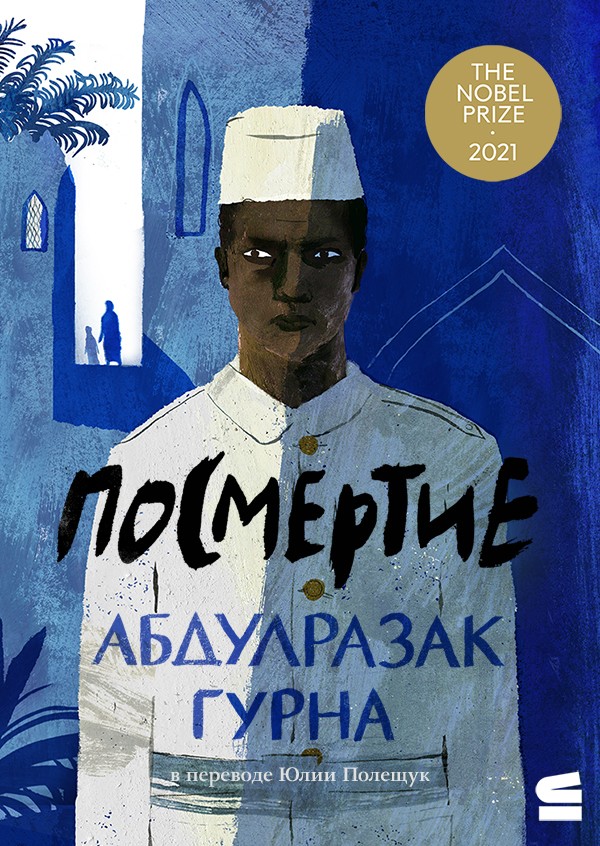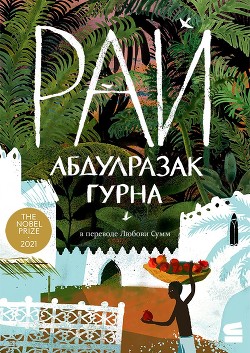офицер еще лежал в постели и пил кофе в спальне, хотя прежде к этому времени успевал подняться и одеться. Хамза ждал на задней террасе, пока офицер умоется и позовет его помочь надеть ботинки и гетры. Как-то раз Хамза, решив, что офицер уже закончил умываться, вернулся в комнату раньше времени и увидел на голой груди командира шрамы от ожогов. Хамза поспешно вышел и дождался, пока позовут. Он полагал, что ему сделают выговор, но офицер разговаривал с ним как обычно по утрам: обращался к Хамзе по-немецки, а тот должен был отвечать. Офицер называл это первым уроком. Может, он просто не видел, как Хамза вошел. Потом Хамза направлялся в спальню убрать постель, а офицер брился и продолжал говорить с ним. Иногда обер-лейтенант умолкал, и Хамза не глядя догадывался, что тот опять буравит его взглядом.
После завтрака Хамза и Юлиус наводили порядок в столовой, в комнатах офицеров, делали другие дела; потом обер-лейтенант вызывал Хамзу к себе в кабинет. Хамза убирал то, что требовалось убрать, и удалялся на террасу ждать указаний. Он ходил с записками к другим офицерам, к солдатам, квартировавшим за пределами бомы, в деревне. Если спешки не было, шел неторопливо, а если было время намаза, заглядывал в мечеть помолиться и пообщаться. Каждый день забирал у военного врача рапорт о заболевших (тот запретил своему помощнику носить рапорт обер-лейтенанту: он-де санитар, а не мальчик на побегушках). Многие офицеры и аскари время от времени страдали от приступов малярии, хотя по утрам принимали хинин и спали под москитными сетками. Некоторые заразились еще до того, как поступили на службу, или во время маневров, где приходилось ночевать под открытым небом и их кусали комары. Встречались также случаи дизентерии, венерических заболеваний, укусов песчаных блох. Небольшие вспышки брюшного тифа: таких больных требовалось строго изолировать, поместить в лазарет. Из прочитанных тайком рапортов Хамза узнал о тщательно скрываемом пристрастии к опиуму среди унтер-офицеров-нубийцев.
Когда Хамза приходил в лазарет, военный врач встречал его многозначительной улыбкой, Хамза ее невзлюбил и притворялся, будто не замечает. Однажды утром, передавая рапорт, военный врач сказал помощнику — медленно и членораздельно, чтобы понял Хамза:
— Обер-лейтенант одержим этим молодым человеком. Хочет сделать из него ученого. Пообещал нам, что скоро этот молодой человек будет читать ему на ночь.
Врач улыбнулся санитару, тот в ответ ухмыльнулся глумливо. Порой, когда Хамза прислуживал в столовой и подходил к стулу военного врача, тот гладил его по ноге, но так, чтобы никто не заметил. А поймав взгляд Хамзы, многозначительно улыбался. Хамза спросил Юлиуса: с тобой он тоже так себя ведет? Юлиус улыбнулся и ответил: нет.
— Он пристает только к тебе. Ты ему нравишься. Неужели не знал? Все знают, что врач — баша [46]. Говорят, он живет со своим санитаром как с женой. Даже в самой Германии солдатам разрешено сожительствовать друг с другом. Один из губернаторов всей Германской Восточной Африки был баша. Несколько лет назад его судили: обвинили в том, что он взял себе слугу специально для этого дела.
— Судили самого губернатора? Кто же судит губернаторов? — изумился Хамза. — Разве суд не подчиняется губернатору?
— Это христианское правительство, — снисходительно улыбнулся Юлиус. — Суд не подчиняется никому.
— Но судить губернатора за то, что он баша! — Хамза не верил своим ушам.
— Да, губернатора и кое-кого из чиновников. Ты разве не слышал об этом?
— Нет, — ответил Хамза.
Юлиус с сожалением посмотрел на него. Он считал, что Хамзе во многом не повезло, и не скрывал этого — не только потому, что тот не учился при миссии и принадлежит к отсталой религии. Наверное, догадался Хамза, Юлиус считает, что лучше него сумел бы угодить командиру, вместо того чтобы прислуживать младшим офицерам, особенно грубияну-фельдфебелю, которого Юлиус частенько именовал отребьем. Теперь же он, понизив голос, продолжал:
— Я слыхал, что даже сам кайзер. — Юлиус многозначительно закивал.
— Ну уж это ты пересолил, — с преувеличенным недоверием произнес Хамза. — Чтобы сам кайзер…
— Не кричи! Да, только они стараются об этом не упоминать: боятся, что мы посмеемся над ними.
Когда Хамза не ходил с поручениями и не сидел на табурете на веранде, а командир не был занят по службе в боме или в полях, он, повинуясь прихоти, звал Хамзу, усаживал за чертежный столик и давал переписывать упражнения. Часто Хамза копировал текст из руководства по обучению в полевых условиях: там были переводы простых фраз с немецкого на суахили и приказы на немецком, Хамза их выписывал и переводил. Если не знал какого-то слова, произносил его вслух, и офицер говорил, что оно означает. Порой учитель и ученик менялись местами: офицер спрашивал, как на суахили называется то-то и то-то. Как сказать «ладан»? Убани. А «немой»? Ганзи. А пена? Пена? Пузыри. Мапову.
Порой офицер отрывался от работы, чтобы поговорить с Хамзой. Когда тот делал успехи, офицер еле заметно кивал, сдержанно улыбался, если Хамза удивлял его смекалкой. Ты замечательно учишься, говорил офицер, но к Шиллеру пока не готов. Порой занятия длились до вечера, и Хамза чувствовал себя школьником, чего с ним прежде не случалось. Урок заканчивался, когда муэдзин сзывал сельчан к магрибу: офицеру это служило сигналом налить себе первый стаканчик шнапсу.
Все в лагере заметили, что обер-лейтенант покровительствует Хамзе, и, хотя это не избавило его от издевок и оскорблений (в боме они были обычным делом), его больше не пороли и не принуждали к труду, как прочих солдат. Правда, покровительство командира не избавило Хамзу от презрения фельдфебеля. Тот за спиной командира называл Хамзу его игрушечным солдатиком.
— Чья ты игрушка? Ты его смазливая игрушка, его забава, юный шога, так ведь? — Фельдфебель грозил Хамзе пальцем, а однажды ущипнул его за сосок. — Меня от тебя тошнит.
Порой на обер-лейтенанта накатывало уныние, он подолгу молчал или изъяснялся экивоками, в которых сквозила насмешка над собой. Хамза вопросительно смотрел на командира, и тот отвечал презрительно или грубо. Ты хочешь знать, что именно я сказал, бестолковый ты бабуин? Хамза привык, что, когда командир не в духе, на него лучше не смотреть и вообще держаться подальше. Он с первого дня знал, что офицер способен на жестокость. Он понял это по невольному блеску его глаз, по набухающей на виске жилке: казалось, обер-лейтенант силится подавить какой-то жгучий порыв. Когда ему случалось задуматься или приуныть, он рассеянно пощипывал эту складку кожи. Хамза страшился этих мрачных минут, когда оказывался беззащитен перед любым унижением, какому офицер пожелал бы его подвергнуть. Унижал он на свой манер: устремлял на Хамзу тяжелый взгляд, порой