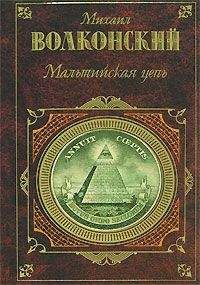Он смотрел бессмысленно на огромную, закрытую сплошь цветной материей массу двигавшегося мимо него, вслед за первым, другого слона с каким-то высоким, ярким шатром на спине, из-за занавесок которого виднелся человек в блестевших золотом одеждах, и ничего не понимал, что происходило пред его глазами.
За слоном зарябили персидские всадники, ехавшие в два ряда, но князь Иван не видел и всадников; все для него заключалось теперь в одной мысли – вырвать как можно скорее свою милую на свободу, к себе.
– Сонюшка, милая!.. – чуть слышно прошептал он, не зная сам, что делает, и желая и вместе с тем не желая, чтобы она услышала его слова.
Девушка услышала их. Это он увидел по движению ее руки, видимо, искавшей его руку.
Но в это время двоюродный брат Рябчич обернулся к ним и, весь поглощенный слонами, с восторгом стал делиться своим впечатлением.
– Батюшки, да сколько их! – чуть не кричал он. – Смотрите, и навьючены, право, навьючены!
Все видели и без него, что слоны, шедшие за всадниками попарно – их было шесть пар, – навьючены красиво увязанными тюками с привезенными подарками. Но он так вдруг обрадовался и тормошил Творожникова и обращался к Соне, точно эти подарки предназначались ему, двоюродному брату Наденьки Рябчич.
Шествие закончилось опять рядами русских конных солдат.
– Поедемте все к нам обедать, – стала приглашать Наденька, когда прошли слоны и площадь быстро стала пустеть.
– Нет, нет, мне домой нужно, отвезите меня домой, – испугалась Сонюшка.
Она боялась, что Вера Андреевна пуще рассердится на нее. Сысоев пошел отыскивать карету.
Творожников заговорил с Наденькой, а ее компаньонка, неизвестно чем заинтересовавшись, уставилась по тому направлению, куда прошли слоны.
В это время Соня успела шепнуть Косому:
– Там, кажется, знают, чем досадить мне, и тебя собираются не принимать…
Персидское посольство, торжественно проехавшее на слонах, на удивление всему столичному населению, было принято в блестящей аудиенции правительницей в Зимнем дворце. На этой аудиенции принимала послов Анна Леопольдовна одна, от имени своего сына, императора. Затем посольство представлялось в отдельной аудиенции мужу правительницы, генералиссимусу принцу Антону.
Персидским шахом, пославшим дары в Петербург, был шах Надир, гроза и могущественный государь Востока. Он прослышал от заезжих русских купцов о несказанной красоте дочери Белого Царя, Великого Петра, Елисаветы Петровны, и в числе посланных им подарков было много ценных вещей, материй и шалей, предназначенных для нее.
Могущество Надира на Востоке было таково, что искать ему союза с иноземцами для поддержки в силах не понадобилось. Цель посольства была, напротив, поразить щедростью и роскошью подарков владетелей и народ великого и обширного государства русского, которое единственно, по мнению шаха, могло равняться могуществу и величию подвластной ему Персии. И вот в этом-то государстве, как знал шах, живет дочь великого царя, красавица собою. Очевидно, она одна – подходящая невеста его сыну, будущему брату солнца, первому владыке в подлунной. Он поразит, ослепит своим посольством петербургский двор, и, наверно, там сочтут за честь породниться с распорядителем персидских судеб.
Это был третий уже высокопоставленный жених, мечтавший о руке принцессы Елисаветы. Официально, при дворе, хотели выдать ее за брата принца Антона, герцога Люнебургского, метившего попасть в герцоги Курляндские. Но Елиса-вета Петровна прямо отклонила этот брак. Жена придворного живописца, француженка Каравак, сватала ее за французского принца Конти. Французский посол Шетарди, под видом доброжелательства к цесаревне Елисавете, хотел впутаться во внутренние русские дела. У него можно было взять взаймы денег, но допускать его участие в делах, конечно, было нельзя. Шведы, объявившие войну России и разбитые уже нашими войсками под Вильманстрандом, прямо объявляли в особо изданном манифесте, что идут на защиту (?) потомства Петра Великого, то есть великой княжны Елисаветы.
И все заботились о ней, всем мешала она. Мешала она, конечно, распоряжаться вполне иноземным людям, захватившим правление в государстве, созданном и возвеличенном ее отцом.
Здесь, в построенной им столице, во дворце, где, как чувствовала Елисавета, было ее место, полными хозяевами были заика-принц Антон, его жена, слабохарактерная женщина, ее любимица фрейлина Менгден, саксонец граф Линар, Остерман, Левенвольд – чужие, не русские люди, пришлые, не знавшие и не любившие ни России, ни русского народа.
Каково было ей видеть и чувствовать, что ей, русской великой княжне, в своем русском царстве не только приходится зависеть от всех этих чужих людей, не только чуть ли не вымаливать у них себе пропитание и кров, но быть унижаемой ими и сносить их оскорбительно-покровительственный тон?
При Бироне Елисавете жилось лучше. Тот понимал, что нельзя относиться свысока к дочери Петра Великого, что нельзя лишать ее того, что подобает ей, как русской великой княжне. При нем при дворе с Елисаветой обходились с должным почетом и аккуратно выплачивали положенное ей содержание.
А теперь? Теперь она окружена шпионами и соглядатаями, живет у себя в дому, точно в темнице; только слава почти одна, что не заточена она, а на самом деле ее жизнь, пожалуй, хуже заточения. Денег не дают. Мало того, до того уже осмелились, что открыто позволяют себе унижать ее. Вот пример этого: за обедом при дворе по случаю дня рождения императора принц Антон и его брат были посажены за стол обер-гофмаршалом, а она – простым гофмаршалом. Пожалуй, придет время, что ее станут сажать ниже фрейлины Юлианы, когда та выйдет замуж за графа Линара.
И кто же, кто против нее? Остерман, всем обязанный ее отцу, поднятый им из ничего, из простых писцов. Он, этот хитрый старик, думает, что хорошо рассчитал свои силы, что принц Антон, который на все смотрит его глазами и все слушает его ушами, – надежная защита ему! Он думает, что Елисавета, тихо и скромно живущая в своем тереме, на милости чужеземного двора, так навсегда и остается покорной своему положению и помирится с ним! Или он затеял окончательно разделаться с нею, устранить ее совсем, смести и уничтожить?
Вот хоть бы теперь! Персидское посольство принято теперь во дворце правительницей, представлялось принцу Антону, но персов не допускают представляться ей, Елисавете, несмотря на привезенные для нее подарки. Посланник выразил желание передать великой княжне подарки лично, но ему не позволили сделать это. Подарки привезли к ней гофмаршал Миних, брат фельдмаршала, и генерал Апраксин. Но тут Елисавета не выдержала.
– Скажите графу Остерману, – произнесла она, обращаясь к ним, – напрасно он мечтает, что всех может обманывать. Я знаю, что он старается унизить меня при всяком удобном случае. По его совету принимают против меня меры, о которых великая княгиня и не подумала бы. Он забывает, кто – я, и кто – он, забывает, чем он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, что он теперь, но я никогда не забуду, что получила от Бога и на что имею право по своему происхождению.
Это было первый раз, что Елисавета Петровна высказалась весьма резко и определенно, пригрозив самому влиятельному, хитрому старому Остерману!
«Тебя собираются не принимать», – сказала Соня князю Ивану, и у него захватило дух при воспоминании от этих слов. «Тебя!» Соня в первый раз сказала ему «ты», и это казалось таким счастьем и блаженством, что в нем тонуло все нехорошее и досадное.
А нехорошего и досадного было много. Косой видел, что положение Сони дома таково, что жить ей там с каждым днем тяжелее и тяжелее, что необходимо вырвать ее оттуда. Но как? Что мог он сделать?
Жил он у Левушки, милого, доброго человека, но это его житье было, конечно, временное, и не мог же он остаться у Торусского навсегда. Пока еще имелись у него деньги, вырученные им в Москве от продажи отцовских вещей; трат больших не было, но все-таки деньги убывали, и неоткуда было рассчитывать получить новые, когда выйдут эти. Можно было надеяться, что удастся получить службу, но все-таки это казалось гадательным. Да и много ли могла дать эта служба?
Князь Иван ходил по комнате, рассчитывал и раздумывал, но ничего утешительного не выходило у него. Положим даже, ему дадут место с хорошим жалованьем, на которое можно будет жить даже с семейством; но ведь нужно обзавестись и устроиться прилично, а на это потребна сразу сумма, и не маленькая. Будь он один, еще было бы с полгоря, и, право, он ни минуты не задумался бы, как ему жить; жил бы, как жилось – вот и все. Но теперь ему приходилось думать за двоих.
И вдруг князь остановился как бы в недоумении, спрашивая себя, как же это все могло случиться, как, когда и почему?
Он приехал в Петербург, чтобы устроить свои дела, но вместо этого, напротив, только запутал их, и запутал так, что как будто и выхода не было.