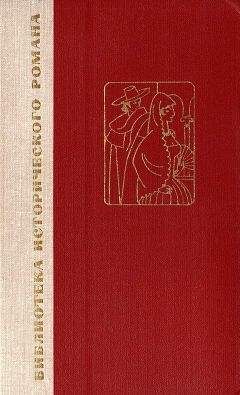Мои страхи оказались не напрасными: еще не успела сойти с корабля и половина команды, как глухой ропот тревоги и ужаса разнесся по «Тринидаду».
– Корабль тонет!.. К шлюпкам, к шлюпкам! – закричали со всех сторон. Подгоняемые инстинктом самосохранения, все бросились к борту, жадным взором ловя возвращавшиеся лодки. Работы прекратились, о раненых сразу позабыли, и многие из тех, кого уже вытащили на палубу, обезумев от страха, ползли по ней в поисках сходен, чтобы броситься в море. Из люков неслись жалобные крики, которые, кажется, до сих пор звучат у меня в ушах; от них кровь стыла в жилах и вставали дыбом волосы. То были раненые, оставленные на первой батарейной палубе; видя, как их заливает вода, они вопили, взывая к помощи не то бога, не то людей. К людям они взывали явно напрасно, ибо те думали только о собственном спасении. В кромешной темноте все, не разбирая дороги, бросались к лодкам, и всеобщая сумятица только затрудняла переправу. И лишь один человек, безучастный к величайшей опасности, ко всему, что творилось вокруг, глубоко задумавшись, шагал взад и вперед по капитанскому мостику, словно деревянный настил, по которому он ступал, не должен был погрузиться в морскую пучину. То был мой хозяин. Обуреваемый страхом, я бросился к нему со словами:
– Сеньор, мы тонем!
Дон Алонсо не обратил на меня ни малейшего внимания и, не прекращая своей размеренной ходьбы (если мне не изменяет память), произнес совсем неподходящие к подобной обстановке слова:
– О, как будет смеяться надо мной Пака, когда я вернусь домой после этой ужасной катастрофы.
– Сеньор, ведь наш корабль сейчас пойдет ко дну! – снова закричал я умоляющим голосом, подкрепляя свои слова трагическим жестом.
Дон Алонсо безучастно посмотрел на море, на шлюпки, на облепивших их отчаявшихся, ослепленных страхом людей. Я жадными глазами разыскал среди них Марсиаля и что есть мочи стал звать его. Но тут я словно потерял сознание: голова у меня закружилась, глаза наполнились слезами, и я не помню, что произошло дальше. Как мне удалось спастись, я припоминаю очень смутно, словно в каком-то глубоком сне, ибо от страха совсем лишился рассудка. Мне помнится, будто к дону Алонсо, когда я с ним разговаривал, подошел какой-то матрос и схватил его в охапку своими могучими руками. Меня тоже кто-то подхватил, а когда я очнулся, то уже лежал в шлюпке у ног хозяина, который с отеческой заботой положил мою голову себе на колени. Марсиаль сидел у руля; шлюпка была переполнена. Я приподнялся и увидел в нескольких варах справа от лодки черную громаду корабля, уходившего под воду. В люках, еще не захлестнутых волнами, трепетал слабый свет зажженного на ночь фонаря, который, как последний неусыпный страж, горел на останках погибающего судна. До моего слуха донеслись жалобные стоны: то взывали несчастные раненые, которых не удалось спасти; они были обречены на гибель в черной бездне, и лишь печальный мигающий свет фонаря как бы позволял им послать последнюю весточку о неизбывной тоске их сердец.
Мое воображение вновь перенесло меня на корабль: еще немного – и он потеряет равновесие и перевернется вверх дном. Как встретят несчастные раненые это последнее испытание! Что произнесут они в сей страшный миг! Если б они видели тех, кто удирал на лодках, если б слышали шлепанье весел, какая тоска охватила бы их измученные души! Но надо признать, что жестокие страдания очистили их от всех грехов и корабль шел ко дну, осененный господней благодатью…
Лодка наша отошла далеко, я еще различал в темноте огромную бесформенную массу «Тринидада», хотя, наверное, скорее по наитию, чем глазами. Мне даже почудилась на фоне мрачного неба огромная рука, которую протянул над морем наш корабль. Но это уже, вне всякого сомнения, было плодом моей разгоряченной фантазии.
Лодка плыла… неизвестно куда. Даже сам Марсиаль не знал нашего курса. Кругом стояла кромешная тьма, мы потеряли из виду остальные шлюпки, а огни «Принса» растаяли в тумане, словно кто-то их задул. Вокруг нас вздымались огромные валы и дул крепкий ветер, наша утлая лодчонка с трудом пробивалась в темноте и лишь благодаря уменью рулевого зачерпнула всего один раз. Все молчали и, напрягая зрение, горестно всматривались туда, где наши товарищи вступили в последний неравный бой со смертью. Это жуткое путешествие я, по своей привычке, постарался философски осмыслить, да простит мне читатель столь пышное выражение. Безусловно, многие посмеются над четырнадцатилетним философом; но я не спасую перед шутками и осмелюсь поведать здесь о своих тогдашних размышлениях. Детям ведь тоже приходят на ум высокие мысли, а в те дни, перед лицом такого зрелища, кто, кроме набитого дурака, мог оставаться безучастным?
Итак, в наших шлюпках находились испанцы и англичане (испанцы, правда, преобладали); весьма любопытно было видеть, как они братались между собой, сплоченные общей опасностью, забыв о том, что всего лишь накануне убивали друг друга в жестоком бою, походя скорее на диких зверей, нежели на людей. Я всматривался в англичан, гребущих с таким же упорством, как и наши матросы. На их лицах отражались те же чувства ужаса или надежды, и особенно преобладало выражение кротости и милосердия. Размышляя так, я говорил себе: «Боже, для чего все войны? Почему люди не могут вечно жить в мире, ведь дружат же они в минуту опасности? И разве эта картина, трогающая до глубины души, не доказывает, что все люди на земле братья?»
Тут мои размышления прервались мыслью о различных странах, или, как я представлял их себе, разобщенных островах, и тогда я воскликнул про себя: «Да, желание отдельных островов завладеть частицей чужой земли – вот в чем корень зла; несомненно, там живет много дурных людей, которые и учиняют войны ради личного блага: то ли в силу тщеславия и желания всем управлять, то ли потому, что непомерно скупы и мечтают разбогатеть еще больше. Эти-то дурные люди и обманывают остальных, всех этих несчастных, которые идут воевать, а чтобы обман был совсем полным, их побуждают ненавидеть другие нации; сеют среди них раздоры, разжигают зависть – и вот вам результат. Я глубоко уверен – так долго продолжаться не может; даю голову на отсечение, что в скором времени люди всех островов убедятся, что совершают величайшую глупость, затевая ужасные войны, и настанет день, когда они бросятся друг другу в объятия и составят единую любящую семью.» Так думал я в те годы. С тех пор прошло семьдесят лет, но такой счастливый день пока еще не наступил.
Лодка с трудом пробиралась по бушующему морю. Мне кажется, что Марсиаль, разреши ему только хозяин, совершил бы беспримерный подвиг: сбросил бы всех англичан за борт и повернул шлюпку к Кадису или просто к берегу, и мы наверняка все утонули бы. Подобный план он нашептывал на ухо хозяину, но дон Алонсо тут же преподал ему хороший урок благородства: я сам слышал, как он сказал:
– Мы пленники, Марсиаль, пленники.
К нашему ужасу, вокруг не было видно ни одного корабля. «Принс» куда-то исчез, мы очутились в кромешной темноте. Ничто не указывало на близкое присутствие неприятеля. Наконец мы с трудом различили какой-то огонек, а через некоторое время из мрака выплыла неясная громада корабля, гонимого сильным ветром. Одни стали утверждать, что это француз, другие, что англичанин, а Марсиаль настаивал на том, что наш, испанец. Гребцы налегли на весла, и, изрядно попотев, мы вскоре подошли к кораблю на расстояние кабельтова.
– Эй, на корабле, – крикнули с нашей лодки. Тут же нам ответили по-испански.
– Это «Сан Августин», – сказал Марсиаль.
– «Сан Августин» потоплен, – отвечал ему дон Алонсо. – Мне думается, что это «Санта Анна», она попала в руки англичан.
И в самом деле, подойдя ближе, мы узнали «Санта Анну», которой командовал в сражении генерал-лейтенант Алава. Конвоировавшие нас англичане предложили нам перейти на «Санта Анну», и через несколько минут мы живыми и невредимыми ступили на палубу славного корабля. Этот стодвенадцатипушечный линейный корабль также подвергся большим разрушениям, правда не столь серьезным, как «Сантисима Тринидад». Хотя на нем не осталось ни одной мачты и даже не было руля, он все же довольно сносно держался на воде.
После Трафальгарского сражения «Санта Анна» просуществовала еще одиннадцать лет и проскрипела бы еще столько же, если бы из-за пробоины в днище не затонула в Гаванской бухте в 1816 году. В морском сражении, о котором я повествую, «Санта Анна» вела себя героически. Командовал ею, как я уже говорил, генерал-лейтенант Алава, начальник авангарда, оказавшийся из-за нарушения боевого порядка в арьергарде. Как вы, вероятно, помните, колонна, возглавляемая Коллингвудом, двигалась на арьергард, в то время как Нельсон шел на центр. «Санта Анна», прикрываемая одним лишь французским «Фугё», вынуждена была вступить в бой с «Ройял Совереном» и еще четырьмя английскими кораблями. Но, несмотря на неравенство сил, потери у обеих сторон были почти равные. Английский флагман вышел из строя первым, и его команда была вынуждена перейти на фрегат «Эуригалюс», Как потом рассказывали, там творилось нечто ужасное: два могучих корабля, почти касаясь реями, в течение шести часов в упор расстреливали друг друга, до тех пор пока «Санта Анна», потеряв девяносто семь матросов и пять офицеров убитыми, а генерала Алаву и командора Гардоки раненными, не была вынуждена сдаться. Зажатая с двух сторон неприятельскими кораблями, «Санта Анна» едва держалась на воде. В ту страшную ночь 21 октября, когда мы ступили на ее борт, она находилась в плачевном состоянии. Лишенный управления, корабль неуклюже покачивался на волнах.