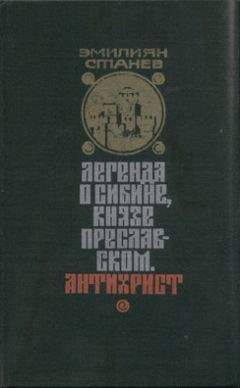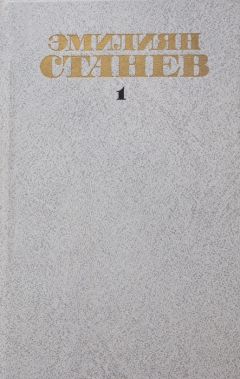Каждый из учителей громко изрекал мудрые поучения, а мы твердили «Аминь», пока отец Лазар не возвестил: «А теперь, братья и сестры, помолимся небесному отцу, и, кто может, пусть возрыдает, дабы слезами своими помочь скорейшему согласию между создателями нашими. Сатанаил жесток, но брат его милосерден, и не безразличны ему слезы наши…»
На лицах этих людей, этого сброда я видел следы очищения, они искали друг друга взглядами и улыбками, выражавшими близость, раскаяние, чувство вины. Бородатые мужские лица, звероподобные, но укрощенные, с осадком сладострастия во взгляде. Кое у кого из женщин глаза были как у покрытых телок, в глазах у других — притворство, у третьих скорбь и слезы. Были и бесстыжие, алкавшие новых утех плоти, в иных же мерцали совесть и разум. К учителям подползла на коленях бледная, худая женщина и поверглась пред ними ниц. Пронзительно завизжала, заразила своим визгом остальных, и отец Лазар бросил в круг воловьи жилы и кизиловые прутья — для тех, кто пожелает бичевать себя. Поднялись плач и стон, иные стали рвать на себе одежду, другие смеялись над бичующимися, и Калеко ударил одного из них кулаком по лицу. Я находился в аду, смотрел на безумства рода человеческого и муки его. Многие из женщин искали меня взглядом. Не телесная красота моя и молодость, вид святого привлекал их. Агнцем меж волками выглядел я, в действительности же был окаянней, чем они, ибо эти люди не знали глубин греха и не искали их с отчаянием Искариота. Горе падшим ангелам, но ещё горше тому, кто по своей воле вступает в ад в поисках мудрости!..
После исступлений, коим предавались мы, все воротились в башню, и я сказал себе: «Ты всегда был грешен, человече, но как постиг бы ты греховность свою? Вот теперь ты видишь её. Субботники правы — и словом и в помышлениях Бог говорил с тобою не один, рядом с ним пребывал дьявол. И в свете Фаворском тоже пребывал дьявол, оттого и сразил он веру твою…»
Как-то раз подозвал меня отец Лазар. Мы уединились и, ласково расспросив меня, он сказал: «С коих пор ищу такого книжника. Ибо ни я, ни Теодосий не удостоены грамоте. Принимаю тебя для того, чтобы записывал ты для потомков учение наше». Я попросил дозволения подумать, но он сказал: «Испугался того, что творим мы? Коль ищешь истину, должно тебе иметь силы, чтобы вынести её. В людях сих — сила божья. Из неё рождается новое слово, ибо человек подобен металлу — чтобы очистить, следует расплавить его. Так поступил и Христос. Ибо сказано: «Камень, отринутый каменщиками, станет краеугольным камнем…»
…Иссякли у меня чернила, так что пришлось собирать бузину и наготовить новых. Я бродил по опушке леса, увидел косулю с детенышем. Мать громко затопала, а детеныш никак не хотел убегать — он ещё не видел никогда человека, и глаза у него были младенческие. Подосадовал я, что нет у меня лука или самострела, ведь я вечно голоден. День за днем каша из горсти проса либо похлебка бобовая. Да и огонь развожу с опаской — слежу, чтоб не пробился дымок. Сотвори крестное знамение, человече, моли Бога, чтобы стер он милосердной рукою своей скверность с сердца твоего. Рука моя и посейчас ещё рука убийцы…
Я стал писарем, но еретическая мудрость ничего не открыла мне, только новую ложь — должно-де человеку свободно предаваться сластолюбию и порокам. Люди находили радость в бичеваниях, плаче, в молитвах об очищении. Тем они укрощали себя. Понял я, что человек любит страдания свои, и, подобно Иову, хочется ему возложить вину на Господа. А где ещё столь легко прощалось бесовство, где столь свободно буйствовало оно? Были среди субботников беженцы из Романии, растерявшие семьи свои, люди отчаявшиеся, жившие подаянием возле церквей и монастырей, одурманенные тайной, которую сулила им ересь. Необходима человеку тайна. Отец Лазар знал это и на неё полагался. Был он воплощением ума и злодейства, Калеко же — сластолюбия и суровости, он наказывал побоями, но во всем повиновался расстриге. Субботники похищали вещи, провизию, угоняли скотину, резали её, предавались обжорству, и страшные побоища разыгрывались между мужчинами из-за женщин и между женщинами из-за мужчин. Дралась и Арма из-за меня, а грек выжидал удобного случая меня убить, однако ж побаивался учителей.
Начав досыта есть мяса и рыбы, которую сам ловил, и сделавшись приближенным отца Лазара, я стал откладывать свой побег и мало-помалу свыкся с этой жизнью, пришлась она мне по душе. Солнце согревало меня, земля питала силой своей. День за днем таяло отчаяние, разум перестал биться над загадкой мироустроения — я не узнавал самого себя. Скончалось чадо Христово, вместо него беззаботно зажил на свете чревоугодник и пересмешник. Я возмужал, потерял всякую робость, даже начал повелевать. И, поглядев как-то на свое отражение в воде родника, рассмеялся. В глазах пляшет лукавыми искорками дьявол, лицо, прежде бледное и богоподобное, стало смуглым, рот сделался крупнее, борода густой и кудрявой. «Вот они, сладости земные, топчи, подобно зверю, землю, ощущай ласку солнца, дуновение ветерка, теплый, животворящий дождь и благоухание ублаженного леса — зеленого чудища, сотворенного для того, чтобы рождать, прятать и услаждать. Вот она, тайна обоих миров — не допускай разлада между разумом и душой, а во всём находи наслаждение. И рай и ад здесь, на земле — рай для сильных, ад для слабых! Да и был ли ты когда монахом Теофилом, не сон ли это?» Так говорил я себе, не ведая, откуда возник бес отрицания, дабы презреньем преследовать мир и людей. Я переписывал беседы ересиархов, посмеивался над еретической премудростью и вкрапливал в неё собственные свои двусмыслицы, всё чаще вспоминая отца Луку и восторгаясь вольным духом этого разбойника. Воспоминания о лавре, о Теодосии и Евтимии, о божественных радостях и видениях я гнал прочь. И начал глумиться даже над красотой, перестал слушать пенье птиц. Упражнялся в стрельбе из лука и стал отменным стрелком. Пронзал стрелами созданья божьи и ножа от пояса не отцеплял.
Было в селении еретиков одно строение, сохранившееся лучше других — четыре гладко оштукатуренные стены с изображением всадников и псов, охотящихся на вепря. Мы с Армой приспособили его под жилье, и стало оно нашим домом. Я постлал на пол звериные шкуры и получилось удобное ложе. С разрешения отца Лазара зажили мы с Армой как супруги, но я не оставлял её одну. Из-за Панайотиса ходила она со мной и на охоту, и рыбу ловить. Он был конокрадом, и другую скотину тоже угонял, скитался по округе, но от добычи своей мало приносил в селение. Однажды ночью, когда я плотски измучил Арму, стала она молить меня оставить её в покое. «Ты Сатана, — сказала она. — Прячется в тебе Рогатый, да поразит тебя Господь! Боже, как обманулась я. Куда делся тот Эню, которого полюбила я за святость его?» С той поры стала она бояться меня, а ревность во мне поуменьшилась…
Минуло три месяца и затосковала она, захотелось ей ребенка. Занялась ворожбой, колдовством, самодивские травы собирала, развешивала по стенам сушить и проклинала меня за страдания, что я причинял ей. Стала часто молиться, злыми глазами глядеть на меня, слезы лить. «Что с тобой, отчего плачешь?» — спрашиваю. «Не любишь ты меня, — говорит, — злой дух. Да и на что мне звериная твоя любовь? Святого искала я, а нашла упыря. Хоть бы Панайотис меня избавил от тебя». Господи, зачем создал ты человека так, чтобы вожделел он того, чего меньше всего достоин…
Ожесточился я и, подобно отцу своему, перестал прислушиваться к голосу души. Но мог ли я любить Арму так, как желала она, коль вовсе не был святым? И отчего оставил я между нами ложь? Оттого ли, что САМ НЕ ВЕРИЛ ТОМУ, ЧТО Я ИСКАРИОТ, или оттого, что считал Арму недостойной узнать мою тайну?
То Калеко, то отец Лазар вместе с избранными братьями и сестрами ездили в Тырновград. Они гостили у боляр, вельмож и богатых купцов, домогались их покровительства, приводя им для сладострастных утех вдовиц и разведенных. Пожелай я, меня бы тоже взяли с собой, но от злобы и презрения я предпочитал развалины древнего селения славному Тырновграду. Здешние виды навевали на меня сладостные раздумья. Я бродил улочками, заросшими бурьяном, вымощенными большими каменными плитами, между поваленных столпов и обтесанных каменных глыб — в особенности по утрам, когда окропленное росой селение казалось кладбищем, где погребена неведомая частица меня самого. Однажды вырыл я дивную статую юноши. Очистил её от земли, поставил, белый мрамор засверкал, точно возвращенный к жизни белый дух. И, восхищаясь им, я шептал: «Вот ты каков! Посмотри, сколь ты прекрасен! Нет зверя ни птицы прекрасней тебя. У тебя нет имени, ты мечта, хоть и зверь!» И стала эта статуя самым близким мне существом…
Однажды ночью грек разбил моего красавца юношу, потому что Арма открыла ему, как он дорог мне. Еретики тоже ненавидели его. Калеко советовал мне его разбить, ибо властвующие ревнуют ко всему, что восхищает подвластных и говорит об иной правде, нежели их собственная. Тогда-то и зародилось во мне желание убить грека…