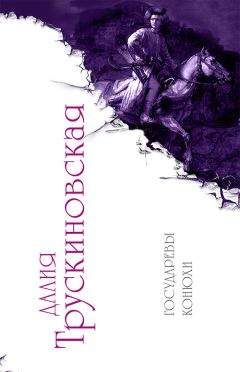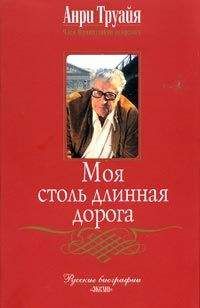– Наверное, ты просто не можешь себе представить, что значишь для меня, Алешенька! – снова заговорила она, и голос ее прозвучал, как нежная мелодия. – Твое мнение для меня важнее всех остальных. Может быть даже – важнее того, что я думаю сама. Мне необходимо твое одобрение, необходима твоя привязанность, твоя любовь…
Марья Карповна говорила и говорила, тон ее был исполнен тепла и доверия, и Алексею почудилось, будто он тает, плавится в лучах этого вновь обретенного мира. Запах жасмина кружил голову, обволакивал.
– Маменька, вы можете быть совершенно уверены в том, что я останусь любящим сыном, какое бы решение вы ни приняли, – наконец выговорил он. – Как бы редко мы ни виделись, вы всегда остаетесь центром моей вселенной. И именно поэтому я так страшусь, что вы оступитесь, споткнетесь.
– Да, да, понимаю – вздохнула мать. – Все, что ты говоришь и делаешь, дружок, продиктовано самыми лучшими чувствами, самыми лучшими намерениями. Вот только ты ошибаешься в оценке Сметанова. И насчет меня тоже ошибаешься. Я ведь лучше всех знаю, что мне подходит, что нет. Однако, если ты стоишь на своем, повторяю: все будет так, как ты захочешь!
Она чуть отстранилась от Алексея и нежно дотронулась гибкой своей рукой до его волос. От этой материнской ласки – так редко ведь в жизни выпадала ему материнская ласка! – он окончательно расчувствовался и просто физически теперь ощущал, как тает в нем последнее сопротивление. Однако перед тем, как несчастному уже совсем ничего не оставалось бы, кроме как совсем сдаться на милость победительницы, на Алексея снизошло озарение. А вдруг, подумал он, все это попросту мошенничество, что, если она плутует? Что, если она только притворяется нежной, что, если она только делает вид, что готова все забыть, – исключительно для того, чтобы полностью завладеть им, подчинить себе? Он тут же прогнал эту гнусную мысль: так хотелось верить, что мать сейчас говорила искренне. Легковерие было непременным условием его счастья…
– Хорошо, маменька, – прошептал он. – Я не уеду. Я останусь и буду на вашей свадьбе.
Она осушила глаза кончиком платочка, поцеловала сына и прошептала в ответ:
– Ты уверен, что поступаешь так по доброй воле?
– Совершенно уверен.
– Тогда все в порядке. Благодарю тебя, Алешенька! Ты мое утешение на этой земле…
Они долго молчали, затерявшись каждый в своих элегических мечтаниях. Потом Марья Карповна встала, подошла к столу, указала пальцем на письмо и спросила:
– Это ты мне написал?
– Теперь в нем нет никакого смысла! – воскликнул Алексей, быстрым движением опередил намерение матери, схватил со стола письмо и разорвал его на мелкие кусочки.
Она улыбнулась:
– Вот и ладно… Спокойной ночи, дорогой!
Стоя перед сыном и протягивая ему руку для поцелуя, она продолжала улыбаться. Пик волнений прошел, и лицо ее стало прежним: твердые черты, прямой взгляд. Алексею вдруг снова показалось, что его обманули, предали, и он едва устоял на ногах, такая охватила слабость. Тем не менее, справившись с собой, он проводил мать к выходу из флигеля. На пороге она остановилась:
– Да! Не беспокойся из-за Луки, он не придет за тобой утром, я уже отменила твое распоряжение…
Два дня спустя Марья Карповна пригласила Сметанова к ужину. Не желая осложнять положение, Алексей безропотно согласился принять участие в семейной трапезе. Совершенно убежденный в том, что его обвели вокруг пальца, он на самом деле не слишком сокрушался о своей неспособности устоять перед коварным обаянием матери. С течением времени сама мысль об этом побеге на рассвете представлялась ему все более и более нелепой. У него не оставалось никакого выхода, кроме полной покорности судьбе. Смириться, склониться перед неизбежностью и ждать. Пусть другие играют в эти игры, только не он. Однако стоило ему увидеть Сметанова, как все началось снова. Сидя за столом, накрытым на пять персон, он грыз себя за то, что бездействует, но понятия не имел, как же надо действовать. Пять человек за столом. Две парочки и он, Алексей. Матвей, прислуживающий за ужином, едва шевелится. Совсем стал старый и кашляет то и дело… Сильно кашляет… Вот и сейчас, поставив перед Марьей Карповной блюдо с заливной рыбой, ужасно закашлялся, настоящий приступ: щеки раздулись, глаза налились кровью, на губах, искривленных усилием сдержать этот чудовищный кашель, показались капельки слюны… Одна упала на скатерть…
– Это просто невыносимо! – вскричала Марья Карповна. – Пусть немедленно убирается вон! И никогда больше не допускать его в столовую!
Смертельно огорченный приговором, растерянный Матвей осторожно поставил блюдо на десертный столик и, пятясь, вышел из комнаты. Место его тут же заняла Дуняша.
– Бедняга! – подсуетился Сметанов. – Вот уж точно бедняга: он свое отжил!
Алексею было очень жалко старика, он помнил Матвея с детства – тот был веселым, крепким, здоровым мужиком, зимой строил в саду ледяные горки, чтобы барчуки могли кататься на санках… И сразу у него в ушах зазвучал радостный мальчишеский смех былых времен, перед глазами встала картина: вот они с Левушкой переворачиваются вместе с санками, кувыркаются через голову в снегу, у них мерзнут уши… а вот маменька, улыбаясь, смотрит на их забавы из окна гостиной… Первого воздушного змея для него построил тоже Матвей. Собака Жучка вся облаялась от злости, видя, как странная хрупкая птица из кисеи уплывает от нее по небу, повинуясь только игривому ветерку. Алексей тогда поспорил с Левушкой, кому держаться за бечевку, управлять змеем. Пока они ссорились и таскали эту злосчастную бечевку туда-сюда, воздушный змей опустился на крышу большого дома и зацепился за флагшток. А Матвей не мог оставаться безучастным к детскому горю – они ведь растерялись дальше некуда и даже плакать начали. Он ловко, даже с какой-то радостной удалью вскарабкался наверх, стоя высоко на крыше, принялся в знак приветствия размахивать руками – и стал похож на моряка, залезшего на мачту корабля, который держит путь посреди океанских волн… Какие уж тут слезы!..
– Не ссылайте его в деревню, пожалуйста, – тихо попросил Алексей. – Можно, наверное, найти для него и здесь какое-то посильное дело, тогда он будет не так несчастен.
– Не было нужды просить меня об этом, – гордо отозвалась Марья Карповна. – Я наказываю только за преступления, калеки не подлежат наказанию.
– Нет человека в уезде, который не благословлял бы вашу справедливость, милейшая Марья Карповна! – воскликнул Сметанов. – Я придерживаюсь ваших принципов в отношениях со своими крепостными. Твердость, но доброжелательность, суровость, но справедливость. Уверен, что благодаря родству взглядов и политики наш союз станет истинным благословением как для ваших, так и для моих людей.
И он принялся разглагольствовать о будущем, когда станет счастливейшим супругом Марьи Карповны и поселится в Горбатове… Алексей с трудом смог представить этого болтуна постоянно живущим в доме его детства. Зато сразу понял, что отныне никаких его, Алеши Качалова, воспоминаний о родительском доме больше не существует: они вытоптаны, они оскорблены, опоганены вторжением этого пришельца. А ему, лишенному прошлого, уже будут не в радость даже и редкие встречи с семьей. Впрочем, с какой семьей? И семьи у него теперь тоже нет! Мать, выйдя замуж за Сметанова, перестанет быть ему матерью. Что же до Левушки, то он уже с давних пор не видел в нем родного по крови человека. Иными словами, замужество Марьи Карповны становилось для Алексея приговором к бессрочной ссылке. «М-да… – думал он. – А я ведь, наверное, в последний раз сижу вот так, напротив нее. Став навеки столичным жителем, я, скорее всего, не найду в себе сил вернуться сюда и увидеть ее в роли замужней женщины. Может быть, станем время от времени писать друг другу… Но лучше постараться забыть… Постараюсь…» Покорность младшего брата удивляла Алексея. Ну как, как Левушка мог согласиться на такое ничтожное, такое унылое будущее?! Господи, ко всему еще он, кажется, рад без памяти тому, что обзаведется этим фанфароном-папашей! Хм, вполне искренне вроде бы радуется… И когда обращается к нему через стол, то делает это с каким-то лакейским, угодливым выражением лица! И Агафья вторит ему, еще кокетничает-любезничает, чучело прожорливое!
– Да-да, конечно же, я возьму еще немножко этого цыпленка с грибочками, но только в том случае, если милейший Федор Давыдович пообещает нам тоже его попробовать!
Она, как обычно, ела много и жадно. И очень быстро. Сметанов же, наоборот, смаковал каждый кусочек, прожевывал его мощными челюстями медленно и тщательно. Со стороны это было похоже на священнодействие. «Милейший Федор Давыдович» словно напоказ выставлял свое стремление вкусить все радости жизни и насладиться ими сполна. Все каждый раз ждали, пока он дожует, чтобы перейти к новому блюду. Алексея подобная медлительность страшно раздражала, и потому он пил больше обычного. И явно больше, чем требовалось по случаю семейной трапезы. За водкой последовали вина. Он заглотал по очереди два бокала крепкого, но сохранившего вкус винограда бургундского, затем вернулся к водке. Мысли его начали путаться, приятно затуманились. Сидя за столом в большом доме, он тем не менее чувствовал себя за тысячи верст от людей, окружавших его в этот вечер, он был им чужим, они – чужими ему. Сметанов между тем продолжал разглагольствовать: