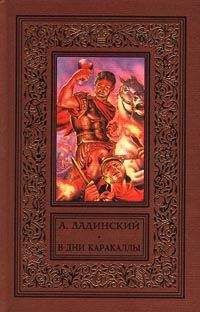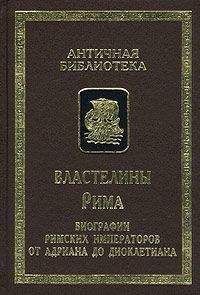— О чем же?
— Об отношении к жизни. Мы помышляем только о своем благополучии, о мягком ложе. Единственное наше устремление — золотой телец. Главная наша забота — о богатстве. Тот, кто наторгует двадцать тысяч сестерциев, умнее, а главное — более достоин уважения, чем тот, кто наторговал десять тысяч. Бедняк же достоин презрения. Но хуже всего, что мы хотим, чтобы все осталось так, как есть. Потому что такой порядок позволяет нам наживаться и даже повелевать миром.
— Как ты говоришь!
— Я прав. Мы только умеем рассуждать о том, что такое жизнь и смерть. А разве мы способны на страсти и дерзания? И потомки никогда не простят нам нашего равнодушия.
Вергилиан опустил голову, и видно было, что эти слова понятны ему.
— Ты прав, конечно, — произнес он наконец, — я сам неоднократно высказывал подобные же мысли. Но в чем же наше спасение, по-твоему?
Александриец, уже окончательно успокоившийся от пережитого, блистая черными глазами, сказал с горьким смехом:
— Кажется, для нас уже не может быть спасения. Для мира нужны какие-то простые и ясные истины, доступные миллионам, а мы спорим о пустяках.
— Слишком поздно?
— Может быть, слишком поздно.
Смех в устах юноши оборвался. На какое-то мгновение Олимпий устремил взгляд вдаль, точно видел там свою гибель, а у меня опять от этих разговоров почему-то учащенно забилось сердце, хотя повсюду я видел мощь Рима, его легионы, его прекрасные дороги, мощенные камнем.
Мы благополучно добрались до Лохии, как называется в Александрии царский дворец, ныне обиталище римлян, и проследовали далее в порт, где Вергилиан должен был встретиться с Аммонием Саккасом. В те дни знаменитый философ, слава о котором долетела в Рим и в отдаленные пределы Азии, уже оставил ремесло портового грузчика и посвятил себя исключительно поискам истины. У Аммония появились богатые покровительницы среди образованных женщин города, и теперь он уже не носил дырявую хламиду и избегал есть чеснок. Но мудрец по-прежнему оставался привержен к простой жизни. По старой привычке его тянуло посмотреть на пришедшие издалека корабли, побродить по набережным, заглянуть в шумные таверны, где мореходы рассказывали о посещенных ими странах и о том, что происходит в мире. Здесь был тот воздух, в котором прошла молодость Аммония: именно среди грубых окриков надсмотрщиков, площадных ругательств и изнурительного труда родились его мысли о красоте. С тех пор я встретил на своем жизненном пути немало людей и убедился, что трудная человеческая жизнь часто родит в душе потребность прекрасного.
В порту все имело такой вид, точно ничего в Александрии не произошло. На спокойной воде круглой гавани, куда спускалась лестница из розового гранита, отражались прибрежные здания и колонны, корабли и гигантский мост Гептастадиона, соединяющий одним сплошным белоколонным портиком берег с островом, на котором все так же дымил маяк. Справа, около Лохии, стояло несколько боевых римских галер, черно-красных, с медными таранами. Впереди, около Фароса, большой торговый корабль с желтым четырехугольным парусом осторожно огибал мыс и храм Посейдона, чтобы бросить якорь в гавани Благополучного Прибытия, как называется торговый порт Александрии.
— Александрия! Звезда Эллады, взошедшая над морями! — напыщенно произнес, подняв руку, Олимпий и снова рассмеялся. Удивительно было у этого юноши соединение разочарования и любопытства, печали и смешливости! Но здесь он распрощался с нами и удалился, чтобы поскорее добраться до дому. Отец его, как мы выяснили во время пути, был владельцем меняльной лавки.
Таверна, в которой философ назначил свидание Вергилиану, находилась недалеко от Фароса и оказалась опрятнее других. Она называлась «Свидание мореходов». Когда мы вошли в это низкое помещение, чужеземные корабельщики, — может быть, приплывшие в Александрию из Понта Эвксинского, так как в их разговоре, полном варварских слов, часто упоминались Херсонес Таврический и гавань Символов, — пили вино и расспрашивали о ценах на пшеницу. Разговорами о пшенице, кораблях, благоприятных ветрах или пошлинах был наполнен весь этот торгашеский и беспокойный город.
Вскоре явился Аммоний. Толстогубая служанка с серебряными серьгами в грязных ушах поставила перед нами на стол деревянную миску с оливками, блюдо с жареной рыбой, а также круглый хлеб, две головки чесноку, вино в кувшине. Потом она ушла и вернулась с тремя чашами из розоватого стекла. Я заметил, что другие посетители пили из глиняных. Но у Вергилиана был значительный вид даже в скромной хламиде, которую он легкомысленно набросил сегодня на плечи, отправляясь в лагерь, считая, что этого требуют особые обстоятельства, и хозяин харчевни решил почтить его дорогими кубками или, может быть, знал философа, которого иногда здесь разыскивали богато одетые люди.
Аммоний поднял чашу, сделал один глоток с закрытыми глазами, точно принося жертву какому-то божеству.
— Итак, ты скоро покидаешь нас, Вергилиан?
— Но с огромной печалью.
— Печаль неприлична для человека, вкусившего философии, — улыбнулся Аммоний. — Ведь каждое мгновение мы расстаемся с чем-нибудь. Следовательно, разумному человеку надо от юности привыкнуть к утратам и не скорбеть по поводу их. Не нужно, чтобы земные привязанности затемняли стремление души к божественному свету.
Мне было приятно брать оливки из одного сосуда с таким прославленным философом. Масло стекало капельками с пальцев Аммония на его жалкую бороду, нечесаную и запущенную браду мудреца. Вергилиан иногда смотрел на меня с братской нежностью, может быть вспоминая утреннюю сцену в легионном лагере. У меня в тот день было хорошо на сердце. А кроме того, я снова присутствовал при волнующем разговоре. Вергилиан прежде всего рассказал Аммонию о том, что произошло на лагерном форуме, и философ сокрушенно качал головой. Потом беседа обратилась к учению платоновской школы. Поучая поэта, философ по привычке прикрывал тяжелыми веками глаза.
— Начнем с того, что душа отлична от плоти. Это может послужить для нас отправной точкой. Ибо во сне она покидает тело, оставляя ему только дыхание, чтобы мы не погибли на ложе. Освободившись от телесного бремени, душа действует, ищет, обретает и приближается к вещам несказуемым и не знает преград. И как солнце изливает свой свет на вселенную, не ослабевая в силе, так и душа. Она едина и неизменна. Но не душа в теле, как в некоем сосуде, а скорее…
Вергилиан перестал есть и весь обратился во внимание.
— А скорее плоть в душе, в тех границах, которые она одухотворяет и не может перейти. Так, одному душа позволяет быть с огромным брюхом, а другого делает худым, ибо такова его сущность. Ведь один — чревоугодник и стремится к наслаждениям, а другой помышляет о высоком и о добродетели.
— Но бывают худые люди, преисполненные злобы и зависти.
— Бывают.
— В чем же тогда дело?
— Я говорю об общем законе души. Но разве все можно уложить в рамки закона?
Вергилиан слушал с напряженным вниманием, боялся пропустить хоть одно слово: это пропущенное слово уже мешало понять дальнейшее.
— Душа покидает тело, покоящееся во сне, — горестно поучал Аммоний, — и никто не знает, где она витает. Некто спящий на улице Тритона, около ворот Луны или в гостинице на Канопской дороге говорит: «Душа моя в Египте». А она, может быть, созерцает хрустальные сферы, где обитает божество.
Я слушал и наблюдал выражение лица Вергилиана, старался уразуметь эту мудрость, но, очевидно, надо родиться эллином, чтобы постигать подобное. Я же был варвар по рождению, и мне казалось, что трудно дышать на таких высотах. Мне пришлось однажды видеть в Александрии уличного фокусника. Играя тремя разноцветными шариками — красным, желтым и голубым, он подбрасывал их поочередно и ловил, и ни один шарик не упал на землю. Не такая ли игра мыслями была и в данном случае? Хотя Аммоний не походил на обманщика. Он верил в то, что проповедовал. Но верил ли его словам Вергилиан? Приносили ли ему эти слова утешение?
Только теперь я стал постигать, как сложна жизнь больших городов, где каждый говорит на своем языке, где речь философа иная, чем болтовня базарной торговки, и существование людей полно противоречий. Все ждали в мире каких-то перемен. Я встречал разнообразных людей — простых рыбаков в Томах, ораторов и философов, корабельщиков и рабов; теперь судьба забросила меня в Александрию, где сталкивались Африка и веяния Индии, платоновские идеи и вера в древних египетских богов, торговля и томление души по небесам.
Вергилиан с осторожностью коснулся тонкими пальцами жилистой руки философа:
— Позволь мне спросить тебя.
— Спрашивай.
— Некоторые утверждают, что тело подлежит ежеминутному изменению, способно делиться на мельчайшие частицы и в конце концов превращается в прах…
— По-видимому, это так. И нужно какое-то начало, чтобы соединить атомы в одно целое. Жалкую храмину плоти объединяет душа.