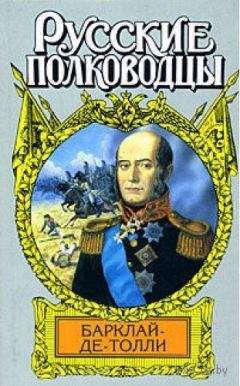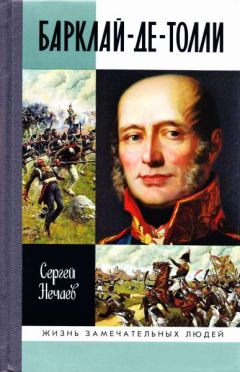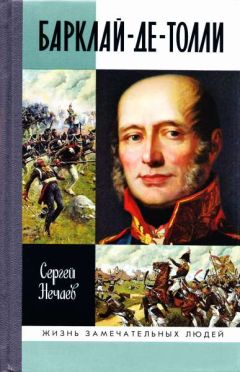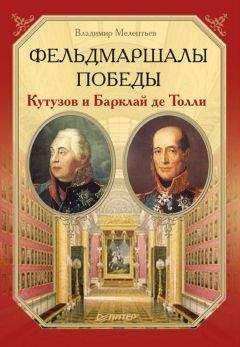И в завершение всего Барклай получил новое звание — секунд-майора, перейдя из обер-офицеров в штаб-офицеры, где значились старшие командиры: премьер-майоры, подполковники и полковники, занимая на лестнице чинов в Табели о рангах четыре самые верхние офицерские ступеньки. Далее шли уже чины генеральские.
Было в ту пору Михаилу Барклаю без одной недели двадцать семь лет — столько же, сколько Светлейшему, когда поднял он со снега маленького мальчика, выпавшего из саней на Невском проспекте…
За новым званием чаще всего следовало и повышение по службе. И если в той части, где офицер служил, подходящей вакансии в тот момент не было, его отправляли в другую, запросив, как правило, согласие на то нового командира.
Вакансия обнаружилась в Изюмском легкоконном полку, которым командовал новоиспеченный бригадир, повышенный в звании тоже за отличие при штурме Очакова — Леонтий Беннигсен.
Легкоконный Изюмский полк был сродни Псковскому карабинерному, и Барклай, направляясь к новому месту службы, особых сюрпризов для себя не ждал.
Да и направляться-то было совсем недалеко, стоило только пересечь большой лагерь — и полк был тут как тут.
Беннигсен принял Барклая приветливо, что случалось с ним нечасто.
В конце декабря Потемкин оставил разгромленный, давно уже сидевший у него в печенках Очаков и поехал по Новороссии подлинным триумфатором, повсюду встречаемый колокольным звоном, пушечной пальбой, фейерверками и балами. Он проехал через Херсон, Елисаветград и Кременчуг, не только восполняя, но и с лихвой перекрывая все те протори[29], что понес в невольной полугодовой аскезе у стен опостылевшего Очакова, который если и был Троей, то увидел в нем своего Ахилла[30].
Месяц праздновал князь Таврический свою победу, покоряя сердца прекраснейших женщин, горстями рассыпая бриллианты и не зная счета золотым червонцам и дублонам, а потом сразу же засел за дела и стал составлять план кампании на новый, 1789 год. Он решил послать Екатеринославскую армию к Бендерам, одновременно угрожая и другим турецким крепостям в Бессарабии, а старому ворону Румянцеву, накаркивавшему на него беду, велел идти с Украинской армией в устье Дуная да там и показать, на что сей вещун способен, кроме дурных пророчеств. Однако ж полагаться на игру фортуны не стал — не ровен час тряхнет Петр Александрович стариной да и повторит Ларгу и Кагул, что тогда?
И великий интриган, надеясь на собственную планиду и всегда мирволившего к нему Бога, все же решил, что и самому плошать, а тем более медлить нельзя, и подвел под старика фельдмаршала мину замедленного действия, коей определил он князя Репнина[31]. Румянцев такого подвоха не ожидал, ведь оба были старые солдаты, к тому же прослужившие рядом много лет.
Репнин, возомня себя вторым Ганнибалом, занял место Румянцева, а потом «одноглазый Циклоп» — и так называли Потемкина — ликвидировал штаб Украинской армии, а те сорок тысяч солдат и офицеров, что служили там, слил со своей Екатеринославской и, вроде бы соблюдая правила игры, затем упразднил и ее штаб, назвав новую, объединенную армию Южной. Цель была достигнута — фельдмаршал Румянцев-Задунайский сдал дела и перестал мозолить единственный глаз Циклопа.
После этого Потемкин обложил крепость Бендеры, выпустив на оперативный простор 3-ю дивизию Суворова, который, вырвавшись из-под опеки Светлейшего, 21 июля под Фокшанами разбил тридцатитысячный корпус Осман-паши, а через полтора месяца — и главные силы турок.
Эту победу одержал он 11 сентября на реке Рымник, уничтожив стотысячную армию великого визиря Юсуф-паши.
Став за эту победу графом Суворовым-Рымникским и кавалером ордена Георгия 1-й степени, он получил также усыпанную бриллиантами шпагу. А так как за победу под Фокшанами следовало его тоже чем-то наградить, а русских орденов, каких бы он не получил, уже не было, Екатерине не оставалось ничего иного, кроме как поднести Суворову к уже имевшемуся у него ордену Андрея Первозванного бриллиантовую звезду и бриллиантовый крест.
А в это же самое время Изюмский полк, шедший в авангарде Южной армии вместе с другими легкоконными полками и казаками, тоже вносил свою малую лепту в войну.
13 сентября Барклай участвовал во взятии небольшой крепости Каушаны, через две недели взял еще одну крепость — Аккерман. В обоих этих делах шел он бок о бок с тридцативосьмилетним бригадиром Матвеем Ивановичем Платовым, с которым потом много раз сведет их общая военная судьба. Впрочем, как и с Кноррингом, и Паленом, и с Кутузовым, и с Беннигсеном.
А 11 октября 1789 года «на пардон», без боя сдалась сильная турецкая крепость Бендеры. Барклай и Платов вошли в нее, победно завершив еще одну кампанию.
На юге дела шли к благополучному завершению, так, по крайней мере, казалось той осенью. Однако не только юг был у России, интересы которой всегда были на всех четырех направлениях и двух континентах. Относительное и всегда временное равновесие сил на юге не означало, что на севере, на востоке и особенно на западе тоже будет хотя бы такая хрупкая стабильность.
И потому русская армия постоянно пребывала в состоянии полной мобилизационной готовности, способная в любой момент выступить куда угодно — хоть к Байкалу, хоть к Варшаве.
А тем временем для многих частей армии Потемкина все более определенно выявлялась новая стратегическая дирекция[32] — на северо-запад, в Финляндию, чтобы окончательно сокрушить шведов, и в Польшу, где вновь подняли голову вечные бунтари — вольнолюбивые паны-шляхтичи.
И под новый, 1790 год Барклай, распрощавшись со своим полковым командиром Леонтием Леонтьевичем Беннигсеном, поехал в Петербург, чтобы явиться, как было приказано, в Военную коллегию за получением нового служебного назначения. Да и не только за этим… Незадолго до отъезда получил он письмо, в котором тетушка сообщала, что от болезни и старых ран умер дядюшка Георг.
И еще раз, как и четыре года назад, когда вернулся Михаил из Феллина, подъехал он к воротам, за которыми в глубине двора прятался флигель Вермелейнов. Стояла такая же предполуночная тишина, но почему-то у Барклая сердце не застучало так сильно, как тогда, и не перехватило от волнения дыхания. Потому что за то время, пока не был он здесь, пролегла в его душе и сердце полоса, которая иссушила былую нежность и восторженность и которую называют войной.
Михаил толкнул калитку и, не входя во двор, увидел совершенно темный флигель — все спали. Извозчик еще стоял, ожидая платы, а Барклаю вдруг Жалко стало будить и тетушку, и сестру, и он, повернувшись к вознице, сказал:
— Поедем-ка, любезный, в трактир, к заставе.
Через полчаса Барклай уже крепко спал, и на душе его было спокойно, как у человека, сделавшего хотя и небольшое, но доброе дело.
Проснулся он рано и, неспешно собравшись, пешком пошел по городу, сказав трактирщику, куда следует отвезти его вещи. Но, поразмыслив, решил, что лучше будет, если пойдет он сначала к всеведущему старику Паткулю, чтобы тот присоветовал, каким должен быть его первый шаг в этой новой жизненной ситуации. Ведь первый шаг, даже самый маленький, если сделан он в неверном направлении, вскоре уведет в такие дали, что останется только дивиться: почему это случилось со мною и как я здесь оказался?
А уж после Паткуля решил он идти домой и там еще раз посоветоваться о предстоящих делах: эта осторожность и основательность, появившаяся у Барклая в последнее время, так и осталась при нем навсегда.
Паткуль остался прежним — и одет был просто, по-домашнему, даже немного неряшливо, только, пожалуй, чуть постарел. Чувствуя это, он хорохорился и, чтобы скрыть подступающую старость, говорил нарочито весело, чуть громче и чуть бодрее, чем было нужно.
— О! — преувеличенно радостно воскликнул Паткуль, увидев на плече Барклая секунд-майорский эполет, и сразу же начал именовать его просто «майор», опуская «секунд», что означает «второй». Так подчас, желая чуть подольстить подполковнику, называют его «полковник», а обращаясь к генерал-майору, говорят просто «генерал».
Барклай сразу же разгадал эту маленькую, наивную хитрость старика, но почему-то и от такой приятной малости у него потеплело на сердце.
— А завтракал ли господин майор? — спросил Паткуль, как только оказались они в его кабинете, и тем окончательно расположил к себе гостя, его искренняя отеческая приязнь отставила в сторону холодный аристократический этикет высшего света.
И это было тем более приятно, что позаботился о том не природный русак, у которого гостеприимство и варварское хлебосольство было в крови, а холодный шведский барон, впрочем, кажется, как раз и испортившийся из-за долгого общения с хлебосольными аборигенами.