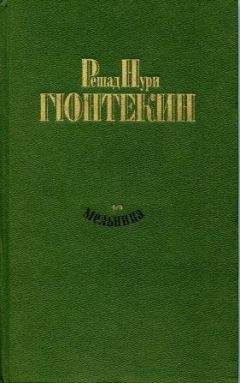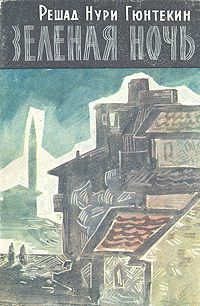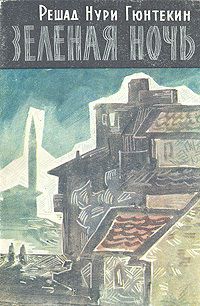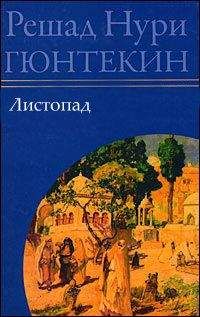Голос Хамид-бея был еще суров, но в нем затеплились уже мирные нотки.
Халиль Хильми-эфенди остановился как вкопанный.
— Простите меня, ваша милость… я не подумал. И правда, вы вспотели. Вам непременно следует сменить рубаху. Еще раз простите меня за дерзость, но я бы вам посоветовал растереться сухим полотенцем. Каковы бы ни были наши служебные отношения, существуют еще и человеческие — мы ведь с вами земляки… Прикажете, я выйду. Подожду в гостиной, покамест вы переоденетесь…
И, не дожидаясь ответа, Халиль Хильми-эфенди вышел, по-прежнему прихрамывая, и осторожно прикрыл за собой дверь.
О, господи, до чего же он похож на гувернера! Хамид- бей с трудом разыскал в чемодане рубаху. Дай бог здоровья Налан-калфе, это она уложила столько пар белья. За это время чистых рубах сильно поубавилось — когда роешься в чемодане, под руку попадаются одни кальсоны.
Но какая прекрасная мысль: прежде чем сменить рубаху, растереть потное тело пушистым полотенцем! Ни он сам, ни Налан-калфа никогда об этом не подумали бы. Право же, есть в бедняге каймакаме что-то располагающее… Однако…
Когда мутасарриф вновь пригласил Халиля Хильми- эфенди в комнату, он чувствовал себя очень слабым: полный упадок сил, как всегда после нервного перенапряжения. От недавнего возмущения не осталось и следа; более того, душа Хамид-бея, полная раскаяния и печали, жаждала согласия и даже взаимного понимания.
После столь трудно давшейся ему вспышки гнева и строгого внушения, которое внесло ясность в их отношения, не следовало, конечно, проявлять мягкосердечие к каймакаму, — это Хамид-бей прекрасно понимал, только совладать с собой был не в силах. Ему захотелось сказать несколько теплых слов, чтобы ободрить Халиля Хильми-эфенди, и, помимо своей воли, он наговорил их без всякой меры. Все закончилось трогательной сценой: оба старика, чуть не плача, готовы были кинуться друг другу в объятия.
И, уже провожая Халиля Хильми-эфенди к двери, Хамид-бей не удержался и дрожащей рукой провел по его печальному лицу, так похожему на лицо старого гувернера. Конечно, если бы каймакам размяк вдруг от неожиданной к нему перемены и вздумал искать снисхождения, пришлось бы выразить недовольство и сказать ему, что дружба дружбой, а служба службой. Но все обошлось, и потому мутасарриф на прощание сказал Халилю Хильми-эфенди несколько обнадеживающих слов, в которых слышалось подлинное сострадание.
Не будь Халиль Хильми-эфенди столь многоопытным чиновником, перевидавшим всякого на своем веку, он еще мог бы поверить этим словам. Но он понимал, что вызвало недолгую вспышку начальственного гнева, подобного волне на озере, которая вскипает вдруг, а потом затихает сама собой. Ему понятны были причины гнева, заставившие этого слабого и совсем не злого человека наброситься на него. И поэтому, вернувшись к себе домой, каймакам горестно вздохнул и произнес:
— Да, видно, плохи мои дела… Погубит он меня, скотина.
XXV. «В РАЗРУШЕННОМ ДОМЕ…»
И началась для Халиля Хильми-эфенди жизнь человека, уволенного в отставку, разжалованного в рядовые… Он редко выходил из дому, с утра до позднего вечера слонялся по комнатам в шелковом халате и ночных туфлях, изредка выходил на раскаленную крышу и ложился, как некогда его больная жена.
Теперь уже никто, кроме Хуршида, не навещал его. Разве что доктор Ариф-бей заглянет изредка.
В беседе с разными людьми мутасарриф допустил кое- какие неосторожные высказывания о каймакаме. Его слова моментально облетели город, и никто не сомневался, что каймакам будет смещен и на этом все кончится.
Как обычно бывает в подобных случаях, сплетни вокруг имени Халиля Хильми-эфенди множились с удивительной быстротой. Больше всего, разумеется, старались те, кто хоть как-то пострадал во время правления каймакама или же был обманут в своих ожиданиях, не получив от него желаемых выгод. К ним присоединились люди, не таившие обид, но которым не нравилась физиономия Халиля Хильми-эфенди, а также те, кто испытывает зависть к любому должностному лицу.
И все они жаловались на старого каймакама. Написал жалобу человек, у которого два года тому назад государ- ство отобрало дом, заплатив слишком мало. Жаловался сторож, которого выгнали за кражу арбузов. Плакалась женщина, требовавшая, чтобы мужа ее, чиновника, бросившего семью с тремя детьми, сняли с должности, — и еще многие, многие другие. Сводились старые счеты. Халиля Хильми-эфенди обвиняли и в том, в чем он действительно был виноват, и в том, что не имело к нему никакого отношения, и в том, что властью каймакама никак не могло быть разрешено, — и обо всем этом немедленно докладывали мутасаррифу.
Хамид-бей, в свою очередь, обо всем докладывал губернатору, отправляя, согласно приказу, по нескольку шифрованных телеграмм в день. Расследовать больше было нечего, все было совершенно ясно, однако разрешение мутасаррифу и членам комиссии вернуться в санджак пока не было получено.
Туманные ответы губернатора, вроде: «Считаю целесообразным и вполне уместным задержаться в Сарыпы- наре еще на несколько дней», — начинали бесить Хамид- бея. И, как назло, рядом ни одного родного человека, которому можно было бы излить душу: Налан-калфа еще не приехала, хотя уже второй день находилась в пути; а Халиль Хильми-эфенди, единственный, кто пришелся ему здесь по сердцу, благодаря роковому стечению обстоятельств оказался главным врагом — надо же, чтобы так случилось! И мутасаррифу приходилось волей-неволей жаловаться Николаки-бею, доверять ему самые что ни на есть сокровенные мысли:
— Нет, ты мне только скажи, доктор, — как-никак ты мне тут самый близкий, — что на уме у этого господина, который зовется губернатором? В прятки он вздумал со мной играть? Ради аллаха, объясни мне, зачем ему надо держать меня здесь? Чего он хочет добиться? Я не мнителен, но мне кажется, тут какой-то подвох… Или он решил сварить меня заживо? Право, не знаю, что и думать… Хотя документ секретный, я тебе его прочту. Знаю, ты не станешь болтать…
В общем-то, мутасаррифа можно было понять. Когда хочешь поскорее вернуться в санджак или попросту домой, а тебе не разрешают неизвестно почему — поневоле на стену полезешь. Правда, дома не найдешь ни такого почета, ни такого покоя, как здесь… Там постоянно надо быть начеку: того и гляди, больная супруга взбеленится и запустит тебе в голову чернильницей или стаканом. Трудно, очень трудно жить все время в напряжении, — просыпаться под крики домашних и засыпать в страхе, что в следующий раз проснешься и увидишь, как жена болтается в петле: глаза выкатились, распухший язык торчит… Все это так, но помимо семейных неурядиц есть и милые сердцу привычки: утренний кофе, который подает Налан-калфа в чашке, привезенной из Мекки; и клистир, который он ставит себе каждые три дня; и любимый стакан, который может однажды угодить ему в висок и стать причиной его смерти, и даже привычный страх, что в любую минуту в него могут полететь кастрюли…
И потом, для столь нервного человека, как Хамид-бей, сама мысль, что он прикован к месту, словно заключенный, и не может уехать, когда ему вздумается, — была невыносима до слез. Хотя, если припомнить, не так уж много времени прошло с тех пор, когда у себя дома, в санджаке, он плакал ночью по той же причине, уткнувшись в подушку, точно мальчик, которого впервые отправляют в пансион. Правда, за последние четыре года он сумел совладать с ночными приступами тоски.
Никаких существенных дел в Сарыпынаре у мутасар- рифа не осталось, однако Хамид-бей предпочитал об этом помалкивать. Кроме того, опасаясь назойливых приглашений, перед которыми трудно устоять, и обильных трапез, он все чаще запирался у себя в комнате и проводил время за чтением жалоб, продолжавших поступать на Халиля Хильми-эфенди. И пусть жалобы были написаны совсем малограмотно или, хуже того, в выражениях непристойных, — они все равно доставляли мутасаррифу удовольствие. Как бы там ни было, жалоба всегда остается жалобой!
Каждая новая бумажка будто изгоняла из его сердца частицу сострадания, которое он еще испытывал к этому человеку с приятным и грустным лицом, напоминавшему ему старого гувернера.
— Ай-ай-ай! Подумать только!.. — восклицал Хамид- бей, перебирая бумаги, на которых были написаны жалобы. — Право же, у этого негодяя грехов больше, чем волос в бороде… Ишь что натворил, бесстыдник. И мне да жалко тебя, эфенди, ты сам во всем виноват… Вот теперь и расплачивайся… Нет, такого человека нельзя защищать…
У мутасаррифа был странный метод проверки жалоб. Он считал, что надо выслушать того, на кого жалуются, и потому время от времени приглашал каймакама для объяснений.
Халиль Хильми-эфенди, получив приглашение, всякий раз сердился и, меняя шелковый халат на цивильное платье, громко возмущался:
— Знаю, проклятый, ты мне все равно башку оторвешь! Ну и ладно, убей, только отвяжись!.. И какого рожна ему еще нужно, окаянному? А впрочем, чего дохлому ишаку волка бояться? Клянусь великим и всемогущим аллахом, на этот раз я ему все, как есть, выложу!