Дирк принял эти новости со смесью радости и досады. Его радовало известие, что Гимараэш так и не доберется до Брюгге, но он горько сожалел, что Фатиме придется уезжать в столь короткий срок. В глубине души он надеялся, что время отъезда можно будет отдалить хотя бы еще на несколько дней. Он намеренно затягивал завершение работы, пытаясь добиться отсрочки и таким образом продлить пребывание португалки в Брюгге. Младший ван Мандер знал, что если изготовить Oleum Presiotum, картина будет завершена очень быстро; но Дирк взялся за работу намного более тяжелую, работу с материалом, который было гораздо сложнее подчинить своей воле, чем самый ядовитый из красителей, — сердце Фатимы. Дирк знал, что душа молодой португалки представляла субстанцию, по своим качествам схожую с Oleum Presiotum: такая же светозарная и пленяющая, но столь же таинственная и загадочная по составу; такая же постоянная и прочная, но в то же время столь же неуловимая, как самое драгоценное из масел. Скромная приветливая девушка со светлой и чистой улыбкой и крестьянским простодушием в один миг превращалась в высокомерную женщину с холодным суровым взором. Страстная шалунья — та самая, что тайком приникала к губам Дирка и дарила ему поцелуи, иногда нежные, иногда возбуждающие, — без всяких причин внезапно становилась неприступной как скала. Но сердце этой женщины было на самом деле еще более коварным, чем мог предполагать Дирк. Младшему брату, конечно, не приходило в голову, что в его отсутствие Фатима и Грег продолжали свою темную, неистовую, порой нечеловеческую игру. Для Дирка Фатима была мучительной надеждой на возвышенную любовь. Для Грега, наоборот, она была обещанием похотливой плоти, сладострастной, чисто земной необходимостью. Перед Дирком
Фатима раскрывала свое сердце — чтобы тут же снова закрыть его. Грегу она предлагала свое тело, словно сочащийся плод, — а в последний момент убирала его от алчущего рта, не давая укусить.
В эти дни Грег проводил большую часть времени, запершись в единственном месте, где мог находиться только он, где было запрещено появляться младшему брату. В четырех стенах этого холодного убежища хранились компоненты, из которых можно было изготовить Oleum Presiotum. Грег настолько ревностно оберегал свой секрет, в первую очередь от глаз Дирка, что никому не позволял проникать в свои темные владения. Единственным исключением стала Фатима. Юной португалке в считанные дни удалось добиться того, чего никто не смог получить за годы: сам художник распахнул перед ней дверь. Когда Фатима в первый раз вошла в потаенную комнату, она абсолютно точно поняла, что значит быть слепым. Она не смогла бы даже описать это закрытое помещение с замурованными окнами по той простой причине, что снаружи сюда не проникал ни один луч света, а Грег, естественно, не испытывал потребности в освещении. Дело было не только в том, что здесь не горело ни одной свечи: открывая женщине доступ в эту комнату, Грег поставил условие, что она не должна зажигать огня. Резкий запах соснового дерева плохо сочетался с мраком и замкнутостью помещения. Фатима решила про себя, что находиться здесь приятно и в то же время страшно. Посреди самой тесной темноты она почувствовала себя затерянной в лабиринте соснового леса. И если бы не рука Грега, направлявшая каждый шаг женщины, она ни за что не смогла найти оттуда выход. Эта комната и стала местом их запретных встреч. Словно двое слепцов, не зная дороги, руководствуясь единственной картой — очертаниями собственных тел, Грег и Фатима исследовали друг друга руками, ртом, языком, подушечками пальцев. Заблудившись в бесконечной черноте этой ночи, они прибегали к единственной ясности — возбужденному дыханию и отрывистым фразам, произносимым вполголоса. Посреди этого океана мрака, где не существовало ни верха, ни низа, ни востока, ни запада, Фатима привыкала доверять единственной истине — твердому и прямому компасу, который предлагал ей Грег. На их корабле штурвал всегда оставался в подчинении у Фатимы. И неизменно, каждый раз, когда Грег уже был готов взять управление на себя и привести корабль в долгожданную гавань, каждый раз, когда руки его вот-вот должны были проникнуть в заветное устье, Фатима вставала, оправляла платье и просила слепого, чтобы тот отвел ее к выходу.
— Не теперь, — шептала женщина, прежде чем распахнуть створку двери и вынырнуть на поверхность дня.
Одинокий в глубоком одиночестве слепоты. Одинокий в необоримом одиночестве темного дома. Одинокий в горьком одиночестве вновь пробудившихся плотских вожделений, Грег ван Мандер по прошествии многих лет опять занимался приготовлением Oleum Presiotum. Старый слепой художник был, если можно так выразиться, осязаемым доказательством того, что цвет существует независимо от света. В этой немыслимой черноте с запахом соснового леса Грег, недоступный постороннему взгляду, умел двигаться, аккуратно обходя мебель, не задевая деревянных бревен, на которых держался потолок, переступая через предметы, место которых было на полу. Он уверенно шагал по комнате, принося и унося всевозможные склянки, измельчая камешки в бронзовой ступке, смешивая масла и смолы. Больше всего это походило на тайное незримое колдовство. Мастер работал с той же сноровкой и знанием дела, что и двадцать лет назад, когда, еще зрячий, впервые изготовил свой волшебный состав по велению Филиппа Третьего — именно этот государь поручил ван Мандеру воссоздать рецепт Яна ван Эйка.
Все были согласны, что художнику удалось не только воспроизвести достижения великого мастера, но его масляные краски даже превосходили краски ван Эйка. Однако сам создатель чудесной смеси не успел оценить свое изобретение, Oleum Presiotum, поскольку ослеп во время его изготовления. Грег поклялся никогда больше не иметь дела с этим ценнейшим маслом, какие бы несметные богатства это ему ни сулило. Вышло так, что таинственная деятельность последних дней стала для мастера возвратом в пору юности. Появление Фатимы произвело переворот не только в его домашней вселенной, но и в его потаенном замурованном аду.
А в светлой мастерской, окна которой выходили на мост над улицей Слепого Осла, назревала еще одна буря страстей. Когда Дирк завершал подготовительные работы, чтобы нанести на портрет первый слой краски, которую готовил его брат, слуха Фатимы, стоявшей на фоне залитого солнцем окна, достигли невероятные слова молодого художника. Женщина все прекрасно расслышала, но не была уверена, что правильно поняла смысл сказанного. И все-таки по ее телу пробежала дрожь. Она взглянула на Дирка непонимающим взглядом, словно заставляя его повторить свое предложение. Только тогда Фатима убедилась, что и в первый раз не ошиблась.
— Давай убежим, — сдавленным голосом повторил Дирк.
Португалка смотрела на него, не веря своим ушам.
— Сбежим прямо сегодня, — взмолился он в третий раз. Фатима глядела на художника и не произносила ни слова, как будто превратилась в статую. Тогда Дирк положил кисть на подставку мольберта, размотал тряпку, которой была обмотана его голова, подошел к женщине и, глядя ей прямо в глаза каким-то чужим взглядом, начал долгий страстный монолог. Он говорил, что ему известно, что Фатима не любит своего мужа, он прекрасно понимает, что этот старик, о котором она никогда не говорит и здоровье которого, без всяких сомнений, ее совершенно не интересует, вызывает у нее глубокое отвращение. Он убеждал Фатиму, что она — молодая красивая женщина, не имеющая права обрекать себя на несчастное существование, или, что еще хуже, на медленную пытку в ожидании радостного дня, когда умрет человек, который, определенно, даже не может подарить ей потомство. Не считаясь с последствиями оскорбления, которое он, возможно, наносит, Дирк объявил Фатиме, что этот жалкий торговец, называющий себя ее мужем, не может дать ей ничего, кроме денег, и что она заслуживает гораздо большего. Молодой человек умолял ее бежать вместе с ним сегодня же, он уверял, что оба они — пленники судьбы столь же жестокой, сколь и несправедливой; в конце концов фламандец признался, что он сам — жертва тиранических наклонностей старшего брата, но теперь его ничто не привязывает к Грегу, даже жалость к его слепоте. Она была пленницей узорных стен своего дворца в Лиссабоне; он же томился в этом мертвом зловонном городе, который ничего не мог предложить молодому художнику. Дирк говорил, что не собирается тратить последние годы своей молодости, наблюдая за тем, как их поглощает мрачное одиночество этого ville morte. Начисто позабыв о скромности, черпая красноречие в глубине своей убежденности, он, не колеблясь, заявил, что, бесспорно, является одним из лучших художников Европы и что его жизнь рядом со старшим братом не имеет будущего; он объяснил, что Грег никогда не раскроет ему секретный рецепт тех самых красок, которыми он собирается писать ее портрет, и поклялся, что не может больше творить со связанными руками. Дирк на коленях молил Фатиму назначить побег на этот самый день. Они могли найти приют в любом месте Фландрии: в Антверпене, в Брюсселе, в Генте или в Арденнах, в Намюре, Эно или Амстердаме — и везде ему окажут королевский прием. Если Фатима пожелает, они могут отправиться и дальше: в Венецию, Флоренцию или Сиену. В Вальядолид или любой другой город Испании. Он готов бежать даже в Португалию, в Порто. Дирк знал, что мало кто из художников обладает его мастерством и талантом, и поэтому он может работать при любом из европейских дворов. Упав к ногам Фатимы, он взял ее руку в свою и в последний раз взмолился:
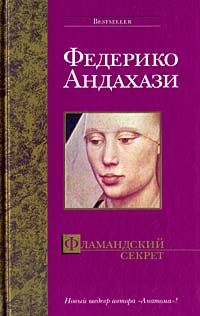
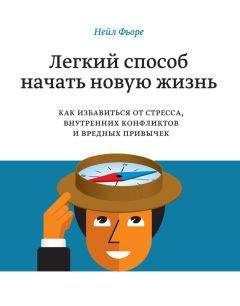
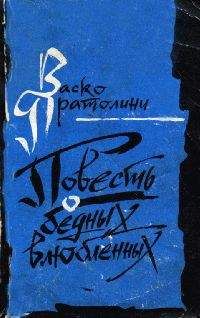

![Андрей Кощиенко - Студентус вульгарис[СИ, полностью]](https://cdn.my-library.info/books/43838/43838.jpg)
