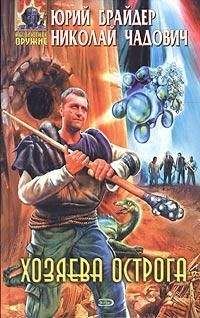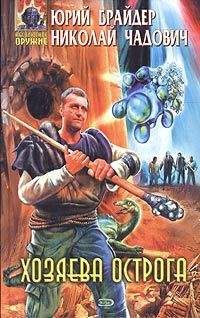Ознакомительная версия.
– Душно в стенах, – трясясь, объявил Лисай. – Выйти бы.
– В ночь? Да зачем? Здесь говори, никто не слышит.
– Нет, не сейчас. Здесь стены слышат.
Боялся, видно, доверять. А на бернакельского гуся мог случайно наткнуться. Сейчас всплыл этот гусь в больном мозгу, вот и все. Не мог московский дьяк иметь в виду такого Лисая.
Глухо.
Утром встретились над рекой.
Вода внизу бесится – рычит, вгрызается в каменные берега, рушит стоячие льды, тащит с верховьев неисчислимые обломки деревьев. Бьет, мочалит мокрые стволы в камнях, мир дрожит.
– Ох, уйдут казаки, Степан!
– Это и вся новость? – удивился Свешников.
И посмотрел внимательно:
– Или хочешь каким именем назваться?
Сам почему-то помнил слова московского дьяка: «А понадобится убить – убей». Да что же это такое? Что за морок? Почему руки хватают воздух, и ничего больше? И почему не выходит никто и ни откуда?
Повторил:
– Или хочешь назваться каким именем?
– Да Лисай я! – возразил помяс.
– Почему сюда привел?
Свешников ни в чем не верил помясу. Кстати, мог Лисай знать литовское имя. В аптекарском приказе много шишей, казенных шпионов. Сказал, успокаивая:
– Да ладно, Лисай. Никуда не уйдут казаки. Только грозятся. Им за своеволие ноздри вырвут. А куда человеку без ноздрей? К чему принюхиваться? Вот дождемся кормщика Цандина…
– Не будут ждать казаки кормщика! – горячо, в каком-то болезненном волнении зашептал помяс, весь трясясь, весь встряхиваясь от внутреннего испуга. – Не верят они, что Цандин придет. Сильно сбивают казаков Косой да Кафтанов.
– Ну, так что?
– Неужто не понимаешь?
– Да что понимать? Объясни словами.
Помяс задрожал и выкрикнул уже в совершенном отчаянии:
– Ты сам отпусти казаков, Степан!
– Это как?
– Ты их сам отпусти! – быстро забормотал помяс, задергался, задергал голой головой. – Может, Гришку, оставь – таскать тяжести. Он совсем глупый. Да еще крикнуто на него в Якуцке слово. А остальных отпусти, пока они не двинулись силой. Прямо скажи: отпускаю, мол, вас, собственной волей. Прямо скажи: не желаете подчиняться передовщику, лучше уходите. И ни в чем им не перечь, пусть уходят. Пусть забирают плот и плывут, куда хотят.
– Спятил, Лисай?
Помяс придвинулся вплотную, на ветру как бы заледенел. Но моргнул круглыми, мутными, как у птицы, глазами, задышал нехорошим духом:
– Я, Степан, говорю дело.
– Да какое же?
– Отпусти людей!
Оглядывался, подмигивал, дергался, как паралитик, шатало его на ветру:
– Отраднее будет Содому и Гоморре, неже тому роду… Приличны же и мы к сему речению, поне забываем прежнюю свою невзгоду…
Пугливо оглядывался:
– Казаки не станут чиниться.
Свешников покачал головой. Видно, не прошла для Лисая бесследно одинокая зимовка в сендухе. Не выдержал, повредился в уме. Сказал ласково:
– Ты сам подумай. Как я отпущу казаков? Что тебе да Гришке делать со мной в сендухе? Да и зачем отпускать казаков?
– Как зачем? Они бабу Чудэ пугают!
Свешников рассмеялся.
От его смеха помяс побледнел, сжал на груди кулаки:
– Я правду говорю. К страшной бабе Чудэ память возвращается. Может, еще совсем вернется. Чудэ видит тебя, ей сразу легче. Раньше ничего не помнила, сейчас многое вспоминает.
– Непонятное говоришь.
– Ты слушай, – зашептал помяс, дергаясь и оглядываясь. – Я много горя перенес, лишнего не скажу. Считай, один сидел в сендухе. Без всяких людей, нюмума. Ведь страшно. Дождь бусит – страшно, снегом запуржит – еще страшнее. Но сидел, ждал терпеливо.
– Чего?
– Ждал, когда память вернется к бабе. Ходил по следам страшной бабы, заранее построил плот с ларями. А память у дикующей, как солнышко – то блеснет, то исчезнет. Вот была память, а вот нет. Одно время так думал, что умру раньше бабы. Но Бог миловал.
– Да что может вспомнить больная баба?
– Как что? – затрясся, озираясь, помяс. Кажется, сильно возмутился словами Свешникова. – Как что? Ты сам подумай! Я ведь говорил: такая баба многое может вспомнить.
– А как гусь бернакельский?
Напомнив, сам сжался. Вдруг помяс, правда, выпалит сейчас нехорошее литовское имя? Ведь было сказано: такому человеку во всем верить, идти с ним, куда поведет. А как верить Лисаю?
– Дело говори.
– «Хощеши ли твоея души цену знати?… Христос на ню изволил кровь свою отдати…» Казаки правильно догадываются, что был великий ясак! Без разрешения государя взял добро Песок. Самочинно. Я сам видел, – задрожал помяс. – И добрые соболи-одинцы! И с пупки! И с брюшиной! Одна сума на другой! Помню, одних медвежьих – несколько! Шиты крупно. А вот где спрятаны?
– Ну, где? – повторил Свешников.
– А про то знает баба!
– Чудэ?
– Истинно!
Вздрогнул, зашептал с новой силой:
– Страшная баба Фимку ждала! Хранила великие богатства для тонбэя шоромоха.
– Но зарезали его в пути.
– А бабе что от этого? – хищно, как птица, моргнул помяс. – Она, может, знает больше, чем мы, только небогата умом. Мэнэрик. Болезнь такая. Я же говорю, Степан, болезнь у бабы Чудэ. Она что-то сделает и тут же забудет.
Зашептал горячо:
– Может, сама и пырнула Фимку. И тут же забыла. Может, тайно шла за вами. Она умеет ходить бесшумно, как первый снег. Ночью вползла в урасу, нашла Фимку по знакомому дыханию, представила ровно бьющееся Фимкино сердце и ткнула палемкой. Вот тебе и тонбэя шоромох. Во сне мы все равные. «Ползует пелынь злопитающих утробы… Тако и мучением грешным полза, зане возъбраняет от всякия злобы…» У бабы такая память: то свет в голове, то тьма.
Зашептал в ухо, оглядываясь в сторону зимовья:
– Я как увидел у тебя чертежик берестяной, так вздрогнул. Знаю, знаю: вычертил тот чертежик Фимка, а остался он у бабы Чудэ. Чувствовала, наверное, что будет стремиться Фимка к богатству.
Весь задрожал:
– Она правильно думала. Но в приступе болезни, не сознавая, пырнула Фимку железом. А сама опять вздрогнула, оставила берестяной чертежик на дереве. Ну, ты сам посуди! – в отчаянье закричал Лисай. – Зачем бабе чертежик, если нет тонбэя шоромоха? Дикующие, они как дети, Степан. На том чертежике, что ты нашел, отмечены крестиками вовсе не переправы. Это тайные курульчики помечены. Тайные курульчики с мяхкой рухлядью, расставленные на уединенных речках. Понимаешь? А как к ним пройти, о том знает только баба.
– Думаешь, найдем?
– Жизнью клянусь! Отпусти казаков! – еще горячее зашептал помяс. – Без них все узнаем. Баба в затмении, но, видя тебя, как бы светлеет разумом. Не знаю, почему так, но светлеет. Может, к тебе тянется, чувствует тайную силу. Дикующие тайную силу всегда чувствуют. Как звери. Раньше чувствовала силу в Фимке, теперь в тебе. Вот останемся одни, она совсем перестанет бояться. А мы потом по реке сплавимся счастливо.
Зашептал еще быстрее:
– «Некли приидем в чювьство и принесем к нему сердечную веру… Да воздаст нам и во оном своем веце сторичную меру…»
– А как же писаные, Лисай? – подозрительно спросил Свешников. – Где рожи писаные? Ты же говорил, что они придут летом. Почему же не идут?
Помяс перекрестился:
– Я сейчас всю правду тебе открыл, Степан. Боялся, но открыл. А теперь добавлю еще такое: не придут писаные. Только ты меня не бросай. Я Гришку боюсь, он невинно убьет меня за своего брата. И Кафтанова боюсь, он невинно замучает меня за чужое богатство. И других казаков боюсь: подозревают.
Часто заморгал:
– Не придут писаные. Здесь шаман умер, и кровь других пролилась. В такие места дикующие не возвращаются.
– Как верить тебе?
– Верь!
Помяс упал на колени. Дергал грязной щекой, всяко подмаргивал, на глазах выступили слезы:
– «Присовокупи еси велие милосердие ко всем… Всякаго приходящего к тебе не оскорбляеши ни в в чем… Яко некая великая река неоскудно всех напояет… Тако твоя прещедрая душа таковым подаянием вснх утешает…»
Вскрикнул неистово:
– Мне сам князь Шаховской-Хари верит!
Заморгал еще быстрее, еще ужаснее:
– Со мной вернешься в богатстве!
– А с Микуней что будет? – негромко спросил Свешников. – Он совсем ослабел очами, Кафтанов непременно бросит его в пути. Или Елфимка, сын попов? Его ведь тоже не доведут, сбросят с плота. Ты подумал о них?
– Что тебе они?
– О душе забываешь.
– Да какая душа? – не понимал помяс, жадно оглядываясь. – Здесь великое богатство скрыто! Мы грехи потом все отмолим, в храме поставим многое. От великого богатства все блестит в глазах! Ну, чего ты, правда, как тот гусь бернакельский!
Опять пронзило:
– Имя хочешь назвать?
– Да какое имя? Лисай я!
– Литовское, нехорошее, – подсказал Свешников.
– Отпусти казаков, Степан! – не отставал помяс. – У тебя жизнь изменится!
– С ума спятил! – Свешников ногой оттолкнул упавшего на колени помяса. Сказал, отворачиваясь к страшной реке:
– Вместе пришли, вместе уйдем.
Усмехнулся:
Ознакомительная версия.