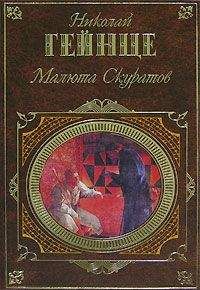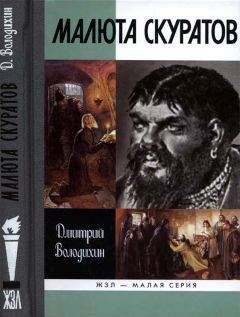Обряд[2] како обвиненный пытается… И я не стану подробно на нем сейчас останавливаться. Он вобрал в себя то, о чем будет не раз идти речь в романе. Обряд зафиксировал, безусловно, не все кошмарные черты ежедневного застеночного быта. Текст, как и замечания в летописях и других исторических изысканиях, лишен вонючего аромата и застоявшейся атмосферы, пропахшей испражнениями, потом и кровью. Но сквозь него — речь идет о тексте — просвечиваются страдания многих жертв, по нынешним понятиям совершенно ни в чем не повинных, а, наоборот, правильно оценивающих окружающую действительность. Между тем еще лет шестьдесят тому назад за приблизительно подобные преступления в нашей стране — Советском Союзе — людей подвергали, как выясняется, мучениям иного вида и рода, но представлявших не меньшую опасность для жизни.
Русское средневековье, конечно, уступает по зверству недавно прожитым годам. Но это все не означает, что по изощренности пыток, смертной казни и убийств государство Российское чем-то отличается от европейских держав, которые с таким неизбывным и — извините за резкое слово — туповатым высокомерием взирают на восточного соседа. За рубежом были изобретены самые изысканные мучительства, самые позорные надругательства и самые бессмысленные издевательства, какие только можно себе вообразить. Но есть какая-то трудноуловимая разница между тем, что творилось на Западе и на Востоке. Августовская ночь перед днем святого Варфоломея вошла в исторические анналы как пример дикой расправы, однако мало кто задумывается над тем, что число французов, падших от рук католиков, почти в десять раз превышает число всех жертв опричного террора. Фамилии Екатерины Медичи и Гизов не стерлись из памяти, но они не приобрели нарицательного значения. Темп уничтожения человеческих особей во Франции намного превосходил аналогичный показатель в государстве Российском, причем резня происходила при жизни Малюты — Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Сцены насилия во времена инквизиции ни в чем не уступали по своей мерзости тому, что современники видели на Поганой луже близ волшебных святынь Православия. И временная параллель здесь тоже имеется. Более того, инквизиция продолжала пытать и жечь, когда на Востоке на какие-то мгновения воцарялась тишь.
Напрасно папа Пий V и надменные сенаторы Венецианской республики воспретили поездку папскому нунцию Портико в Московию на основании известного доклада Альберта Шлихтинга, бежавшего туда, откуда явился с оружием в руках.
За два года до Варфоломеевской ночи Пий V писал собственному нунцию: «Мы ознакомились с тем, что вы сообщили нам о московском государе; не хлопочите более и прекратите сборы. Если бы сам король польский стал теперь одобрять вашу поездку[3] в Москву и содействовать ей, даже и в этом случае мы не хотим вступать в общение с такими варварами и дикарями».
Одновременно с этим письмом католическая верхушка Франции готовила истребление гугенотов. Не каждое слово у Шлихтинга правдиво и искренне. Но прежде, чем швырять камешки в чужой огород, не лучше ли на себя оборотиться? Впрочем, каждый поступает как ему заблагорассудится, и коварное зверство одних не может и не должно помогать обелению других. И упреки Пия V и остальных западных властителей и путешественников вполне справедливы, и от них не отмахнешься: все, мол, такие! Все хороши!
III
Все, да не все! Неофициальные русские летописи, разумеется, оставили свидетельства пыток, казней и убийств. Безвестным авторам вполне можно доверять: «И быша у него мучительные орудия, сковрады, пещи, бичевания жестокая, ногти острыя, клещи ражженныя, терзания ради телес человеских, игол за ногти вонзения, резания по составам, претрения верьми на полы, не только мужей, но и жен благородных…»
Не очень складно, но понять и представить легко.
«Повелел государь телеса их некоею составною мудростью огненною поджигати, иже именуется поджар, и повелевает государь своим детям боярским тех мученных и поджаренных людей за руки и за ноги и за головы опока вязати различно, тонкими ужшищи, и привязывати повеле по человеку к саням». Тоже не очень складно и эстетично, но вполне вообразимо. При живости фантазии и недолгом размышлении просто оторопь берет, чем государь пресветлый занимался и что вытворял, борясь за выживание и власть. Эта откровенность и безыскусность наивных летописцев позволила Западу свысока взирать на Восток и с помощью местных безотчетно действовавших интеллигентов из группировок прогрессивных экстремистов превратить эпоху Иоанна IV Мучителя в нечто небывалое. С одной стороны — истина, подмогой ей поговорка: «На деле прав, на дыбе виноват», или: «В одном кулаке сожму, так плевка мокрого не останется», а с другой стороны — культурная репутация западных откованных из железа и закаленных в человеческой крови, тоталитарных режимов создали для государства Российского некий шлейф исключительности, что не соответствует реальным обстоятельствам. Однако во многом мы сами являемся авторами собственного реноме. Запоздали мы с признаниями, и намного. Для того чтобы выяснить или, вернее, раскрыть строчку у Николая Михайловича Карамзина, Сергея Михайловича Соловьева и Николая Ивановича Костомарова, надобно обращаться к иноземным источникам, каковые с плохо прикрытым сладострастным чувством насквозь ложного нравственного превосходства описывают, как в государстве Российском на кол сажали. Обреченного привозили на торговую площадь в санях, запряженных шестью лошадьми, бросали на стол и в задний проход втыкали железный кол, который через затылок выходил наружу. Когда человека таким образом насаживали на стержень, восемь подручных палача относили страдальца на возвышение и водружали там ту корчащуюся и издыхающую скульптуру, чтобы народ мог лицезреть мучения. Кол имел поперечную перекладину для того, чтобы умертвляемый сидел на ней. Палач, продлевая адскую казнь, иногда накидывал приговоренному на плечи шубу, если время случалось зимнее. Посаженный на кол в третьем часу пополудни испускал дух только на другой день в восемь часов пополудни. У нас появлялись работы, касающиеся этих ужасающих подробностей. Однако характерные черты, о которых я упоминал, по обыкновению извлекались из зарубежных источников. Достаточно заметить, что все отрицательные детали — именно детали! — эпохи пыток, казней и убийств в основном приведены в сообщениях таких людей, как Альберт Шлихтинг — пленник, бывший в услужении у популярного при дворе лекаря, опричники Генрих Штаден, Иоганн Таубе и Элерт Крузе, которые сами были замешаны в преступлениях кромешников и пользовались доверием Иоанна IV, который использовал их в качестве дипломатических агентов. Многое из утверждений не очень чистоплотных искателей приключений, которыми была набита Россия в большем количестве, чем мы предполагаем и признаем, впрочем иногда вынужденно пошедших на службу к новым хозяевам, вызывает законное подозрение. Но если соотнести их впечатления с летописями, озлобленными, по мнению Александра Сергеевича Пушкина, текстами князя Андрея Курбского и самого царя, то сквозь различные ухищрения, в основе которых лежит защита собственных интересов и исторической репутации, преувеличения, наговоры и прямую клевету просвечивает все-таки неутешительная правда. Вероятно, разница между экзекуциями на Западе и на Востоке состоит не только в том, что в последнем случае они проводились без малейшей серьезной попытки придать им видимость законности, но в известной неопрятности действий подручных царя, а также в очевидном самодурстве, с каким выносились неадекватные проступку приговоры. Индивидуальная, а не соборная воля решала вопрос жизни и смерти.
Однако, с другой стороны, какая видимость законности была придана Варфоломеевской ночи? И все же, сталкиваясь с разного рода фактами, явственно ощущаешь некую специфичность того, что происходило в окрестностях Кремля, в самом Кремле да и на необъятных просторах Руси — в Новгороде, Пскове, Казани, Астрахани и в иных местах. События на мосту через реку Волхов показали, как русский властелин может обращаться с русскими людьми, его собственными подданными, которые чем-то ему не пришлись по душе.
Так или иначе пытки, казни и убийства происходили и до воцарения Иоанна IV, но в тот день, когда тринадцатилетний мальчик отдал приказ псарям затравить пусть грубо и дурно обращавшегося с ним князя Андрея Шуйского, открылась новая страница в отечественной истории. Ничего подобного прежде, как кажется, не происходило.
I
«История злопамятнее народа!» — воскликнул, завершая повествование о временах Иоанна IV, Николай Михайлович Карамзин, чей верный взгляд на исторические события и окружающую его жизнь просто поражает и, безусловно, вдохновляет искренностью, человечностью и простотой. Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти, заключает историк. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими, мудро объясняет он развитие нашего самосознания и самопознания. Народ чтит в царе знаменитого виновника государственной силы. Он забыл или отвергнул название Мучителя, данное современниками, и по темным слухам о жестокости его именует только Грозным, отобрав это определение у недооцененного потомками деда. Не во всем можно согласиться с Карамзиным. В перемене названия первую скрипку играли династические интересы. Именно они сформировали мнение народное и навязали интерпретацию многих сюжетов. Многовековой опыт жизни, и особенно в XX веке, показал, что первоначальный отзыв современников был более верен и адекватен, невзирая на все международные заслуги Иоанна и невзирая на то, что он создал мощную государственную машину и, в сущности, создал державу, какой мы ее знали до краха коммунистического режима. XX век убедительно продемонстрировал ничтожность цены человеческой жизни на территории от Бреста до Владивостока, надежды подданных государства Российского постепенно испарились, и прогрессивный экстремизм потерял огромное число сторонников. Вот почему темные слухи о жестокости Иоанновой вновь зазвучали с прежней силой и вот почему, вопреки воле властей предержащих, прежнее название Мучителя чаще и чаще всплывает в памяти жертв самого разнообразного политико-экономического террора.