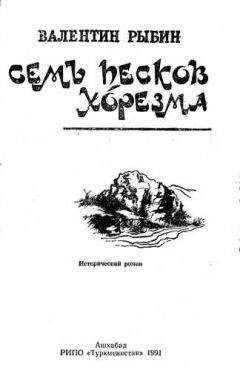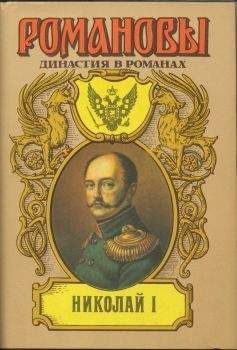XII
Татьяна в поместье Юсуф-мехтера под присмотром служанки большого горя не знала. Скука лишь да постоянная тоска то по уехавшему мужу, то по далекой родине, где остались мать с отцом и младшая сестренка, угнетали ее. Когда Сергей уезжал, шел уже четвертый месяц ее беременности. Платьица прежние ей уже не лезли, пришлось купить несколько широченных хивинских, больше похожих на длинные рубахи. Меланья принесла ей с базара заодно и паранджу сартянскую. Сказала наставительно:
— Ты, Татьяна, не фыркай на эту черную сетку. Она только и может спасти тебя, если беда какая-либо нагрянет. По-ихнему, бусурманскому закону, с женщин нельзя срывать паранджу. Смертью карают того, кто посмеет это сделать
Татьяна покапризничала малость, примерила черную сетку, посмеялась над собой. Однажды Меланья собралась на базар, и Таня увязалась за ней:
— Погляжу хоть Хиву, а то и не видела толком. Когда в колымаге сюда везли, даже из дверцы не выглянула — боялась ослушаться.
Отправились с одной из жен Юсуф-мехтера, которую сопровождали не только служанки, но и нукеры, Мехтерша — женщина разбитная и словоохотливая. Ей с первого знакомства понравилась Татьяна. Едва вышли за ворота, ханша принялась тихонько показывать и пояснять, что есть что. Прошли женщины через Нанба зари — длинный крытый рынок, устеленный кошмами а циновками, на которых сидели с лепешками, разными пирожками и печеньем хивинцы. Тут же, только в сторонке, высились целые горы арбузов и дынь, виноград и яблоки на прилавках. Торговцы — сплошь кишлачные узбеки и сарты, и все мужчины. У каждого по одному, а то и по два раба-перса. Худы, в лохмотьях, глаза голодные — только и слышно, как покрикивают на них торгаши... Прошли дальше, на соседний рынок, Бакал-базари. Тут все под открытым небом. Слева и справа крытые лавки. На прилавках — тазы с белой патокой — мешалдой, на подносах халва разных сортов, конфеты белые — из муки и сахара, русский сахар в малых и больших головках. Таня попросила Меланью, которая знала по-сартянски:
— Ты, Малашка, спроси у хозяйки, где русские купцы торгуют? Что-то русских не видать.
Мехтерша ответила, а Меланья перевела:
— Сами русские в Хиву не приезжают. У русских купцов служат в приказчиках татары — они и привозят товары.
— А что же русские-то, небось, боятся? — спросила Татьяна.
— Может, и ездили бы сами, да по хивинскому закону христиане в три раза дороже пошлину платят. Поэтому приезжают татары, — охотно пояснила мехтерша.
Побывала Татьяна и на вещевом, голубином рынках, мимо хивинских бань прошла. Показали ей и невольничий ряд, где рабов продают. Грязные и изможденные, пригнанные издалека люди сидели на полу, прикованные к кольям цепями. Откуда они — из Персии, России — не угадать: все бородатые и в драном тряпье... После того как повидала Татьяна Хиву, еще сильнее заныло у нее сердце. Поняла, что уже никогда ей не вырваться отсюда. Придется всю жизнь мыкаться среди хивинцев. «Вот если бы узнал обо мне, где я нахожусь, мой папаша да выкупил меня!» — иногда согревала ее робкая мысль. Но стоило Тане об этом подумать, как мечта ее рассыпалась в прах. «Если бы даже и нашли меня, и деньги прислали бы, то все равно бесполезная мечта. Ведь не одна я теперь: муж со мной, да и дитя уж на свет божий просится. Сергей-то — у него грех на душе; ни за что не согласится ехать а Расею, а одного его тут не оставишь. Пропадет с тоски без меня, а я без него там иссохну вся...» По ночам плакала Татьяна, уткнувшись в подушку. Сначала судьбу свою оплакивала, но вот прошло целых три месяца со дня ухода Сергея на войну, а о нем — ни слуху, ни духу, и застонало сердце о нем. Теперь уже не маменькой бредила Татьяна, не домом на взгорке, вокруг которого паслись на лугу гуси. Грезился ей Сергей днем и ночью.
Представал он перед ней весь в крови, на холодном песке. Видение это преследовало ее и сокрушало до изнеможения. Днем она металась по пустым, застланным коврами комнатам. Ее тянуло на айван, но едва она открывала дверь, у нее появлялось желание броситься вниз. Жуткий страх охватывал Татьяну, и она звала Меланью. Служанка, бросив дела, бежала к своей хозяйке с картами и начинала гадать на Сергея.
— Ты зря это убиваешься, милая, — принималась успокаивать Таню. — Вот, гляди, опять шестерка бубе* ная вышла — стало быть, дорога ему. Ей-богу, скоро приедет. А вот и сам он — король...
Таня верила и не верила картам, но все же гаданье успокаивало ее. Тогда она просила служанку сходить к мехтерше и разузнать об Аллакули-хане. «Как появятся о нем вести, так и о Сергее станет известно», — думала она. Меланья отправлялась в господский дом. Возвращаясь, докладывала:
— Ходють они по чужим землям хорасанским, дань с врагов собирають. Как соберут все золото, так и вернутся. Вот те крест, не вру. Сама мехтерша мне сказала. Ты, Татьяна, главное, тоске не предавайся. Живи, как все: мешай дело с бездельем — проживешь век с весельем.
В октябре Татьяна родила мальчика. Сбежались на крик ее чуть ли не все женщины подворья. Одни помогали Меланье, другие топтались на айване, предлагая свою помощь. Мехтерша прислала Татьяне сластей всевозможных, а через день-другой наведалась сама. Глядя на малыша, посоветовала:
— Назови его узбекским именем — Аллакули-хану понравится, он пришлет тебе богатые подарки.
Татьяна засомневалась:
— Можно ли такой грех на душу брать? А вдруг с дитем что-нибудь случится! Окрестить его надобно поскорее, а как приедет Сергей, он и назовет сына.
Мехтерша согласилась с ее доводами, и, вроде бы невзначай, обронила:
— Юсуф-мехтер вчера сказал, что Аллакули-хан с шейх-уль-исламом из-за русских пушкарей между собой ссору затеяли. Вчера гонцы приехали, были у нас в гостях. Рассказывают, вроде бы хан Аллакули хотел Кути-ходжу оставить своим наместником в Кара-Кала, а шейх воспротивился, не подчинился. Шейх приехал раньше других в Хиву и поднял на ноги всех ахунов и мулл, чтобы заступились за него. Святые наши отцы настраивают народ против неверных. Везде говорят, что Аллакули-хан связался с христианами, а о своих мусульманах совсем забыл. Мехтер мой послал к тебе, Таня, сказать, чтобы ты назвала младенца мусульманским именем и отдала в нашу веру...
Затряслась Татьяна от страха и несогласия:
— Не могу я этого сделать. Дождусь Сергея, он и решит!
Заплакав, сына прижала к себе, словно орлица орленка заслонила крылом. Мехтерша молча покивала, вроде бы согласилась, и ушла.
Ни мехтерше, ни Тане, жалкой пленнице, не дано было знать — отчего вдруг горсточка русских пушкарей наделала столько суеты в Хиве. Сам Юсуф-мехтер, конечно же, знал истинную причину ссоры между ханом и шейх-уль-исламом. Побег пушкарей — это только повод, а истина лежала глубже, была она в самом укладе жизни рабовладельческой Хивы. Аллакули-хан, по соображениям святых отцов, — выродок из всех ханов Кунградской династии, — плохо заботился о своих ближайших сановниках: биях, мехтерах, мехремах, ясаул-баши и прочих зажиточных людях, разбогатевших на рабах. Каждый из них держал в своей усадьбе не меньше сотни. У Юсуф-мехтера их было свыше четырехсот, а у Кути-ходжи — триста невольников. В Хиве только христиан, по подсчетам самого же мехтера, было свыше четырех тысяч душ. О персах и говорить нечего, Эти исчислялись десятками тысяч. Каждую пятницу пригоняли их на невольничий рынок в цепях, е колодками на шее.
Аллакули-хан тоже держал на своих загородных усадьбах и в садах несколько сотен рабов, в их числе и русских мастеровых мужиков, но он, в отличие от своих сановников, не дорожил рабами. До нынешней ссоры с шейх-уль-исламом Аллакули-хан уже не один раз на государственных советах оглашал письма Оренбургского и Астраханского военных губернаторов, в которых выставлялись требования о возвращении из Хивы русских невольников. Всякий раз, когда мехтер зачитывал такое послание, Аллакули-хан обращался к своей знати: «Ну что, уважаемые, не пришла ли пора подумать о прошении русских?» После таких слов на какое-то время воцарялась гнетущая тишина, а затем кто-нибудь начинал кашлять и раздавался жалобный голос: «Ай, маградит, надо ли всерьез принимать русские слезы? Они пишут письма ради забавы, а нам каково? Наше великое государство без русских рабов сразу ослабеет. Да и не мы ходим на аламан за рабами. Рабов пригоняют кайсаки да туркмены, а мы только платим разбойникам...» Аллакули-хан тогда начинал жаловаться, что в Европе его называют главным работорговцем, и нет никакой возможности доказать, что это не так. Единственное средство смыть с себя пятно позора — прогнать всех рабов из Хивинского царства. Тогда сановники дружно вступали в спор с Аллакули-ханом. «Возможно ли такое?! — первым начинал Кутбеддин-ходжа. — Хива не может существовать без рабов! Наши рабы делают все: сеют и жнут пшеницу, возделывают рис, растят сады и выращивают овощи. Во всех мастерских и кузницах тоже рабы. Рабы создали богатство и благо. Сами мы можем только повелевать. Нам нельзя жить без рабов!» — Кути-ходжа воинственно распалялся, хан же начинал морщиться, вздыхать и поворачиваться с боку на бок в своем кресле. Тогда Кути-ходже на помощь приходил Юсуф-мехтер. Этот был спокойнее и умнее. Он не дерзил, а добивался своего неоспоримыми доводами. На последнем совете, когда зачитали послание военного губернатора Оренбургского края генерала Перовского, и Аллакули-хан, как всегда, заколебался, Юсуф-мехтер вежливо сказал: «Маградит, я считаю, сегодня говорить о возвращении невольников опасно. Ныне не только твои близкие люди, но и наши воинственные соседи — туркмены — познают выгоду рабской, силы. После того как ты уступил им плодородные земли на хвостах наших больших каналов и они переселились туда из Семи песков Хорезма, то сразу же обзавелись рабами. Сами туркмены не могут ни сеять, ни собирать выращенное. Если все мы, твои верные слуги, и наши союзники-туркмены, возвратим рабов туда, откуда их пригнали, то нам самим придется браться за кетмени и впрягаться в сохи. Но это невозможно. Это было бы равнозначно развалу великого Хорезма...»