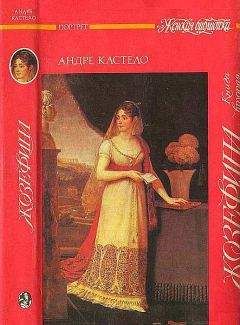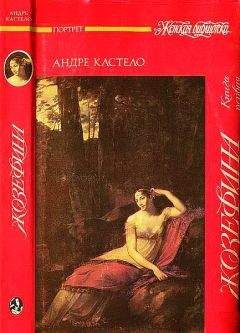Ничуть не бывало.
В замке холодно и сыро. «Здесь умер Франциск I, и все выглядит как в тюрьме, — пишет Екатерина отцу. — Каждому отведено по комнате, где, впрочем, мы только одеваемся и спим, причем мало, потому что ежедневно с одиннадцати утра до двух часов дня находимся у императрицы. Завтрак, рукоделье, потом шесть-семь часов охоты, обед галопом, карты, музыка и светские беседы с императрицей. Принцы и принцессы обычно танцуют. Я, как самая рассудительная и старшая из них, только и делаю, что сижу, посматриваю по сторонам и томлюсь — так хочется спать».
Жозефине с трудом удается поддерживать «светские беседы»: она ненавидит Рамбуйе, но вынуждена скрывать свои чувства, потому что ее муж находит эту резиденцию «очаровательной» и удивляется, как там можно скучать. Через несколько дней, когда двор переедет в Фонтенбло на период с 21 сентября по 16 ноября 1807, он скажет Талейрану:
— Я собрал в Фонтенбло много народа. Мне хотелось, чтобы здесь развлекались. Я организовал все мыслимые развлечения, а у людей вытянутые лица, печальный и усталый вид.
Талейран ответил:
— Дело в том, что удовольствиям не предаются под барабан, а здесь у вас, как и в армии, такой вид, словно вы приказываете нам: «Ну-с, дамы и господа, развлекаться — шагом марш!»
Факт бесспорен: придворные дефилировали перед императорской четой совсем «как на параде, в котором участвуют и дамы», по выражению одного из современников, близких ко двору. Каждый вечер, когда императрица устраивает прием у себя, общество в Фонтенбло собирается у одной из принцесс. Королева Гортензия, еще настолько больная, что ее пришлось доставить в Фонтенбло «по воде», Екатерина Вюртембергская, Каролина, великая герцогиня Бергская, а вскоре королева Неаполитанская, или Полетта, княгиня Гуасталла, которая вот-вот станет принцессой Полиной, поочередно устраивают у себя приемы по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам. Часов около восьми двор в парадной одежде располагается кругом, и все молча смотрят друг на друга. Появляется Жозефина, обходит гостиную, а затем, — говорит г-жа де Ремюза, которой мы должны дать слово, если не хотим, чтобы читатель подумал, что мы преувеличиваем, — занимает свое место и вместе с другими молча ждет императора.
Наконец входит Наполеон. В то же мгновение все вскакивают с такой невероятной быстротой, что это движение, замечает драматург Александр Дюваль, могло сравниться «только с выполнением ружейного приема».
Когда он пропускал вторую часть «смотра» и не заставлял приглашенных дефилировать мимо него, как делал на своих приемах, император садился рядом с женой и смотрел на танцы. Но «вид его отнюдь не оживлял развлечение, почему подобные сборища никому и не доставляли удовольствия».
* * *
В разгар праздников в Фонтенбло прибывает известие о том, что 2 июня г-жа де Ла Пажри скончалась в Труаз-Иле. 10 того же месяца ее похоронили со всей пышностью, какую можно было создать на острове.
Еще в конце февраля или начале марта Жозефина получила письмо, отправленное с Мартиники 12 декабря 1806 ее двоюродным братом Луи, братом Стефани и сыном Робера Маргерита Таше де Ла Пажри, дяди императрицы. Он сообщал «своей кузине» довольно печальные вещи о ее матери. «Невозможно, — писал он, — измениться в нравственном и физическом смысле больше, чем моя бедная тетка. Она все время плачет». Г-жа де Ла Пажри жила теперь не столько в Труаз-Иле, сколько в резиденции властей Фор-Наполеона, бывшего Фор-Руайаля, где располагала лишь крохотной, находившейся над кухней комнаткой, куда легко проникал шум. Император, без сомнения, выплачивал ей пенсию, но, вероятно, по примеру Госпожи Матери, она не верила, что сказка может «длиться» слишком долго, и потому не желала идти ни на какие расходы для того, чтобы устроиться поприличнее. «Ей давно следовало бы решиться на это, — продолжал ее племянник, — потому что задержка с этим порождала много неприятных слухов, вплоть до разговоров о том, что она-де живет в нужде…»
Можно предполагать, что, получив такое письмо, Жозефина отдала соответствующие распоряжения, но они прибыли на остров лишь за несколько дней до того, как г-жа де Ла Пажри испустила последний вздох в присутствии г-на Виларе де Жуайёза, генерал-губернатора острова, примчавшегося в Труаз-Иле[68].
Отметим, что молочная сестра Жозефины Гилобетта дожила до девяноста лет и скончалась в начале Второй империи.
Следовало ли императорскому двору надевать траур по теще императора, особы, которой не знал никто, кроме Жозефины и Стефани Таше? Чтобы не прерывать фонтенблоских празднеств, решено было не вспоминать о печальном событии. Жозефина промолчала и спряталась ото всех, чтобы выплакаться, — рассказывает нам м-ль Аврийон.
Известие, разумеется, не омрачило атмосферу, царившую во дворце, — она и без того была предельно мрачной.
Стены сочатся скукой. На пышных спектаклях, даваемых по понедельникам, средам и пятницам в течение всего долгого пребывания в Фонтенбло, зрители зевают. На восемнадцать представлений приходится двенадцать трагедий, «вечных трагедий», сущее снотворное, которое надо терпеливо принимать, делая вид, что получаешь удовольствие. Двор буквально давится ими — так утверждает г-жа де Ремюза. Молодые женщины засыпают в зале, не боясь, что их разбудят аплодисменты: в присутствии императора аплодировать запрещается. К тому же и ему случается вздремнуть вечером в дни охоты. Жозефина будит его лишь после того, как занавес опускается в последний раз, и все расходятся «грустные и недовольные».
«„Император замечал это умонастроение, — продолжает г-жа де Ремюза, — оно приводило его в дурное расположение духа, он набрасывался на обер-камергера, бранил актеров, требовал найти других“. Ему случалось также менять спектакль утром в день представления.
— Я так хочу, — говорил он».
Стоило ему отчеканить свое бесповоротное: «Я так хочу», как эта фраза эхом разносилась по дворцу. Дюрок и особенно Савари произносили ее тем же тоном, г-н де Ремюза повторял ее актерам, шалевшим от перенапряжения памяти или перемены репертуара, на которую их обрекали. «Во все стороны во весь опор на поиски нужных людей или реквизита мчались курьеры».
Двор сбрасывает с себя оцепенение лишь три раза в неделю, в дни охоты. Под звуки «Бонапарты», сменившей «Королевскую охотничью», все галопом летят в тот лес, где заплутал Людовик Святой и насмерть разбился, упав с коня, Филипп Красивый. На Жозефине и фрейлинах платья из красного бархата с золотой строчкой, Гортензия выбрала себе амазонку из голубого бархата с серебряным шитьем. Императрица ездит на охоту с отчаянием в душе. Она не любит охотиться: ей претит бойня. Однажды в Рамбуйе олень, преследуемый сворой, спрятался под ее коляской. Из его прекрасных глаз текли слезы, и Жозефина умолила пощадить зверя, Добившись своего, она надела оленю на шею серебряное ожерелье: пусть и впредь он останется под ее охраной.
Приводя Фонтенбло в такое состояние, чтобы дворец мог служить резиденцией двора, император не поскупился. Дворцовые покои меблированы заново, парк помолодел, пруд вычищен военнопленными.
«Чтобы он не зарастал травой», в него даже запустили лебедей, а теперь собираются опять развести там карпов, выловленных и проданных во время Революции, — или хотя бы их потомков и родственников.
Но, несмотря на такое обрамление, дворец похож на сущую галеру, где под беспощадным взором императора каждый «гребет согласно расписанию». «Гребля» не мешает, однако, думать и сплетничать, как только владыки удаляются в «свои личные апартаменты» — бывшие королевские покои на первом и втором этажах, выходящие в сад Дианы.
Придворные — а они злоязычны — посмеиваются, глядя, как Жером уже охладевает к своей толстушке жене и ухаживает за хорошенькой Стефанией, удрученной тем, что она теперь всего лишь принцесса Баденская, хотя еще так недавно была приемной дочерью Наполеона и обладала правом старшинства перед всеми и вся.
Главным предметом пересудов являются, несомненно, романы императора. Все находят естественным, что Наполеон засматривается на прелестное лицо Карлотты Гадзани, которая стала чтицей Жозефины и ждет своего часа с самого пребывания императорской четы в Генуе. У нее самое красивое при дворе лицо: чистые линии, яркие черные глаза, ослепительные зубы и улыбка, которую считают «уклончивой». Само собой, Жозефина жаждет развеять свои сомнения и, убедившись в их обоснованности, пытается однажды, по дурной своей привычке, проникнуть в кабинет мужа, когда тот принимает г-жу Гадзани. Констан преграждает ей дорогу:
— Это невозможно, государыня, у меня категорический приказ императора не беспокоить его. Он работает сейчас с министром.
Этот «министр» — красавица Карлотта. Жозефина дважды возвращается, и оба раза Констан не впускает ее, В тот же вечер император сурово говорит своему лакею: