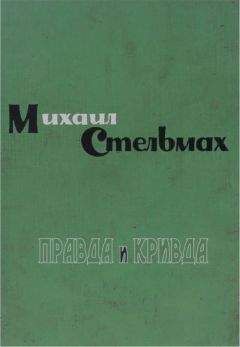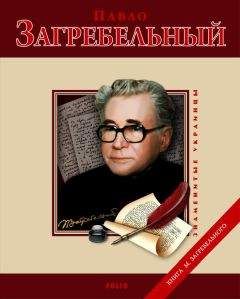И вот был я с ними и не с ними, лишь один раз пошел на море в то первое лето, а потом ограничивался одними лишь советами, зная вельми хорошо нрав турецкий; хорошо, о моей тайной Сечи не знал никто и никогда не догадался; и вот я не потерял доверия ни у короля, ни у его приближенных, никто не трогал меня, сам Конецпольский, казалось, забыл о своем гневе и только перед смертью пожалел, что не сжил меня со свету; и вот я прибыл в Краков будто бы по приглашению самого короля, чтобы увеличить число опечаленных подданных у гроба королевы, а вышло, что меня заманили в самую столицу, чтобы сказать прямо и недвусмысленно, что кто-то знает о неизвестном, кто-то выслеживал все эти годы каждое мое движение и теперь от моего поведения будет зависеть, может, и жизнь всех тех, кто доверился мне. Переступлю ли я через них? Кто переступает через людей, через их могилы, через их слезы, тот переступит и через весь мир. Чего же достигнет? И где окажется? Как я мог предать своих товарищей!
Тяжкой и долгой была моя дорога из Варшавы домой, и еще более тяжкие думы охватили мою немолодую голову. Согласиться с домогательством Оссолинского или и дальше прикидываться тихим хуторянином и рачительным сотником чигиринским? Вон даже сам коронный гетман Конецпольский благодарил мою сотню, когда зимой под Охматовом была разгромлена, как никогда, орда. Реестровые бились плечом к плечу с жолнерами, объединились в мужестве и желании, чтобы весь мир узнал об этом мужестве и чтобы все обидчики чужеземные обходили их земли, не трогали, боясь их молодечества и их боевой дружбы. Татары были так безжалостно и беспощадно разгромлены под Охматовом, что когда, удирая, какой-то их чамбул встретился со свадебным шествием, то крымчаки не кинулись грабить, а тихо поснимали шапки и стояли неподвижно, пока свадьба не проехала мимо.
Теперь речь шла не о реестровых, а о моих потаенных побратимах. Пан Оссолинский не отступит. От черта откажешься, а от людской назойливости ничем не открестишься. Но и распоряжаться чужой жизнью мог ли я? Только собственной, но о моей жизни речь не шла, ибо то, что я создал, казалось кое-кому значительнее моей жизни. Уничтожить созданное мною - уничтожить меня самого и мои намерения. Так размышлял, наверное, и пан канцлер великий коронный, и я должен перехитрить этого великого европейского лиса, посмеяться над ним моим горьким смехом. Смелость и осторожность в сочетании с хитростью - вот что присуще казакам и крестьянам. Я казак и крестьянин одновременно. На всех высотах и перепадах жизни не забывал об этом, не утратил своей первозданной сущности - и в этом моя сила сокровенная. Стоит один лишь раз свистнуть - и никакой моей Сечи, и никого и ничего, ни следа, ни духа, потому что все мои побратимы в случае необходимости становились пастухами, рыбаками, чабанами, жили под ветрами и непогодами, уже и не люди, а тени и отблески света, неуловимые, как молнии на небе. Не боялись ни бога, ни черта, все убегало от них, от их пропитанных дегтем сорочек, от их пик и мушкетов и их ненависти. Воины, с которыми они имели дело, всегда почему-то были пышно одеты, так, будто заблаговременно готовились к смерти. Султаны были слишком великими, ханы и мурзы слишком никчемными, чтобы побеждать одних и других. Да и не ради геройства подставляли казаки свою грудь, а для защиты и обороны родной земли и народа своего становились они живым валом. Теперь этот вал должен был покатиться куда глаза глядят, даже в неведомую Францию. Зачем? И есть ли в этом целесообразность? Посмотрим, пан Оссолинский, посмотрим.
Какой неземной страх налегает на душу, когда, погруженный в дела повседневные, кажущиеся тебе сутью жизни твоей, внезапно оказываешься над бездной вечности и безнадежности, видя, как самый близкий тебе человек медленно и неминуемо уходит в иной мир, замкнутый в своей боли, как покинутая церковь, будто одинокий остров среди разбушевавшегося моря. Потусторонний холод проникает в него, вливается такими мощными струями, что никакие огни земные не способны уже задержать горение жизни в теле, - будто слабая угасающая звезда посреди безбрежной черноты небес.
Вознамерился спасти всю землю, а тем временем бессилен помочь самому близкому человеку! Так я сидел возле свой Ганны, брал ее прозрачную руку, прислонял свою обветренную всеми ветрами щеку к ее холодному обескровленному лицу и не мог удержать слез отчаяния и раскаяния. Ганна, Ганна! Как же так? За твою чистоту, безгрешность - и такая несправедливая расплата. Ты так щедро дарила жизнь, а у тебя жизнь отнимается без милосердия и без сожаления.
Еще тяжелее мне было от мысли о том, что я изменял Ганне, имел грех перед нею, пусть еще не осуществленный, даже не осознанный, спрятанный так глубоко в сердце, что и сам не мог его разглядеть, но это уже был грех, он уже завязывался и неминуемо должен был прорасти, зазеленеть, радостно и буйно уничтожая все вокруг, распростираясь пышно и, я сказал бы, неистово. Мотря. Матронка. Роня. Когда въехал во двор в день своего возвращения из Варшавы, первой увидел ее. Стояла на крыльце, будто предчувствуя мое прибытие, будто ждала там уже много дней и недель, не замечала ни дождя, ни ветра, ни холода, одетая кое-как, посверкивала серыми своими глазами навстречу мне, придерживала тонкой рукой одежду, которую рвал на ней ветер. Стояла, будто грех воплощенный. Рука тонкая, но округлая, уже женская, и тело под заветренной одеждой таилось уже не девичье, а женское. А еще вчера было детское. Когда набрало силу? И как растет тело женщины? Тайна тайн.
Я отвел взгляд от Матрониной руки, смотрел на свои руки. Руки для дружеских пожатий и для трудов праведных, руки, чтобы брать, давать, пестовать и карать, руки для сабли и для пера, для грубости и нежности. Какие же неуместные они рядом с тонкими девичьими руками, созданными только для любви, выросшими для ласки и наслаждений.
Внезапно забыл, кто я и что я, остановился перед молодыми глазами, будто на смотринах, сам на себя взглянул со стороны и был доволен. Не отличался красотой, зато знал, что имею добрую презенцию, благородные черты, орлиный нос, взгляд открытый и смелый, брови вразлет, как и мысли, легкость слова, мужская осанка, лицо обгорело от ветров и солнца степного, борозды на щеках - следы дум и переживаний, седина ударила в голову - лишнее доказательство опытности и ясности суждений.
Хлопцы мои Демко и Иванец бросали какие-то глупые шутки молодецкие Матронке, она отшучивалась, а мне казалось, что смотрит лишь на меня, но не осмеливается промолвить мне хотя бы слово, и я тоже растерял все свое мужество и молчал, будто в оцепенении. Но тут выскочил на крыльцо Тимко, за ним с визгом выкатился маленький Юрась, я соскочил с седла, одной рукой прижал к себе чубатую, уже казацкую голову старшего сына, а другой подхватил малого Юрка, а уже и дочь Катря шла к отцу, и пани Раина появилась будто ниоткуда и рассыпалась в своих шляхетских радостях и восторгах, только тогда приблизилась и Матронка, и я вплотную увидел ее серые глаза под темными бровями, и сердце мое резануло страшной болью от давнего-давнего воспоминания, еще переяславского, когда такие же глаза из-под таких же бровей смотрели на меня с любовью, страхом и надеждой. Серые глаза под темными бровями. Ганнины глаза.
- Где мать? - спросил я детей, не видя Ганны. - Что с нею?
Никто мне не ответил, но я уже и сам знал, и неземной страх овладел мною.
Теперь гладил Ганнины помертвевшие руки и плакал над ее судьбой и над своей. Человек умирает, угасает медленно и неуклонно, и не помогут ни короли, ни боги, никто и ничто. Где тайна жизни и смерти, существования и небытия?
- Ой Богдане, Богданочку, - шептала мне Ганна, - как же один останешься? Бог вразумил тебя, что ты приютил у нас пани Раину. Она добрая женщина и пригожая. Будет тебе хозяйкой и женою. Послушай меня, Богданчик, обещай мне...
Даже на смертной постели не могла проникнуть моя несчастная Ганна в мрачные глубины моего сердца, не почувствовала затаенного, не даровано ей ясновидение того, что свершится, - таким великим и непростимым был мой грех.
- Прости меня, Ганна, - попросил я ее, - прости.
- За что? Разве ты виновен?
В самом деле, виновен ли? Что делал до сих пор, как жил, какими нуждами, заботами и страстями? Дал ли волю сердцу своему хотя бы раз, думал ли о нем, позаботился ли? Человек должен отшуметь смолоду. Целые годы молитв и сурового воздержания у иезуитов, два года жестокой турецкой неволи остановили меня, будто коня на скаку, сломилось во мне все надолго, будто и навсегда, когда же проснулась душа, почувствовал: не будет теперь мне удержу ни в чем! Знал, что и смерть Ганнина не станет преградой, а, может, только откроет мне дорогу к греху.
Страшные мысли и страшная душа моя, но что я должен был делать?
Раздал варшавские подарки домашним, привез из Чигирина лекаря шляхетского, попросил священника субботовского помолиться о здравии моей несчастной Ганны, а потом закрылся в своем покое на несколько дней, никого не пускал к себе, не хотел видеть. Чувствовал себя старым и одиноким. Человек и рождается для одиночества, ибо разве не в тайне зачинают его и приводят на свет? А живешь на людях, и отплачивают разве лишь тем, что приходят на твои похороны. И уже тогда снова получаешь свое одиночество на веки вечные.