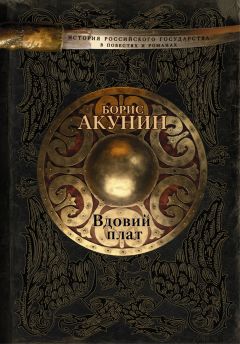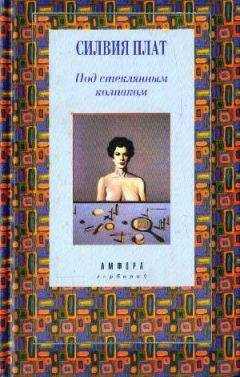Ознакомительная версия.
Настасья взяла берестянки с трех концов Софийской стороны – Загородского, Неревского и Людина.
В Загородском, всё обдумав, решили не биться, не тратиться попусту. Большинство тамошних крепко стояли за Марфу, оба выдвиженца были ее, какой ни победи. Ладно, это ожидаемое.
Но в Людином случилась нежданность, скверная. Ефимьин племянник, стервец, подвел. Борецкая посулила ему место тысяцкого при ананьинском посадничестве, и Михайла польстился, пошел против родных дяди и тетки. Хотя, если рассудить, Ананьины ему тоже родня. В Новгороде все великие семьи меж собой многократно перероднились.
Одним словом, Людин конец был потерян.
Зато в самом Марфином логове, в Неревском конце, выходило интересное. Там-то все минувшие недели главная схватка и кипела.
Обе стороны перепробовали все обычные предвыборные каверзы.
Конечно, не обошлось без «грязнухи» – так назывались слухи, порочащие враждебного выдвиженца.
Марфины «шептуны» повсюду говорили про Ярослава Булавина, что он брешет: напали на булавинскую семью не псковские из мести, а какие-то безвестные тати, из корысти, а Ярослав-де перетрусил и убежал, бросил старика-отца и беззащитную жену на погибель. Сыскался даже свидетель, калика, божий странник, который якобы сидел в кустах и собственными глазами видел, как Ярослав после сам себя по лбу рубанул саблей. (Здесь всё было кривдой, за исключением того, что псковские на Булавиных не нападали. Саблей боярина ударил Изосим, осторожно – чтобы крови вышло много, а шрам получился тонкий, мужественному лицу в украшение.)
Однако свидетель действительно ходил по улицам – благостный, седобородый. Клялся на иконе, и многие верили. Берестянки от рознюхов стали показывать худое.
Но расторопный Изосим не оплошал. Стал копать, что за калика такой. Оказалось, бывший печерский чернец, выгнан из обители за воровство и многоблудие. Доставили из монастыря подлинных старцев, они о том по всем церквам рассказывали. И рознюхи донесли, что положение поправилось. Не задалась Марфина грязнуха.
Сильно помогал и сам Булавин. На него довольно было поглядеть, послушать – и всем становилось ясно, что такой орел ни от кого бегать не станет.
Погремец был исключительно удачный, Настасья не могла на него нарадоваться.
Один раз тайком, из закрытого возка, она понаблюдала за «руготой» между Ананьиным и Булавиным.
Ругота – это когда выдвиженцы или избранщики прилюдно, на площади, друг перед дружкой встают и лаются, всяк свою правду прославляет, а чужую хулит. Толпа смотрит, слушает, крикуны своего поддерживают, на чужого улюлюкают. От руготы многое зависит, как кто себя покажет.
Очень Григориева за своего погремца тревожилась. Ананьин и умнее, и речистее.
А выходит, боялась зря. Аникита говорил и задушевно, и складно, и убедительно – про выгоды псковской торговли, про единение против Москвы и прочее рассудительное, Ярослав же лишь рокотал про былую славу новгородскую, поминал великих праотцов, да вздымал вынутый из ножен меч. Ни словечка умного не сказал, а получилось только лучше. Тот умно́ – наш красно́. Тот тихо – наш лихо. Толпе, ей умные речи не нужны, она в смысл не вникает, она глядит, кто сокол, а кто куренок щипаный. Кричали Булавину много громче, чем Ананьину.
Свои, григориевские шептуны тоже хорошо поработали. Пустили ответную грязнуху – вроде глупую, из воздуха состряпанную, а, оказалось, очень полезную. В грязнухе что главное? Чтоб ее нельзя было опровергнуть и было интересно пересказывать. Тогда шептунам достаточно начать, а дальше сплетня расползется сама.
Грязнуха – и смех, и грех – была такая.
Будто бы кто-то из ананьинских слуг подглядел, чем Аникита тешится с женой-псковитянкой в опочивальне. Боярин-де надевает на голову уздечку, на спину – седло, встает на четверни, а боярыня сверху садится, мужа плеткой по гузну охаживает, а он ржет по-лошадиному. Изосим говорил: чем дичее слух, тем больше верят. А хоть бы и не верили – все равно разнесут. И верно. Недели не прошло, а уже не только Неревский конец – весь Новгород спорил, правда про узду с плеткой или нет. На последней руготе, когда Ананьин начал верх брать, свои крикуны давай в толпе по-лошадиному заливаться: иго-го, иго-го! Ананьин сбился, в толпе хохот. А после говорили: засмущался – значит, дым не без огня.
* * *
Подсчитав и пересчитав рознюховские донесения по Неревскому концу, Настасья нахмурилась. После всего что было, она ждала лучшего. А тут выходило, что за Ананьина больше половины. И времени остается мало, только два дня…
Сунула руку под плат, почесать родимое пятно.
Думай, голова, думай. В чем причина? И, главное, что можно сделать?
Первая причина, конечно, в том, что по части уличного зазывальства с Марфой в Неревском конце не посоперничаешь. Ананьинские зазывальщики с утра до вечера свободно ходят, голосят, своего выдвиженца расхваливают. А попробуй булавинские сунуться – враз налетают вороги, бьют, гонят.
Пробовали с ними «голку» затеять (это когда голыми руками дерутся, закон сего не воспрещает) – так главному григориевскому крикуну башку проломили, до смерти, остальных помяли. Ничего не поделаешь, у Борецкой бойцов больше, и Корелша, начальник над ними, ярей Змея Горыныча.
Была однако и еще одна причина, недавно выявленная. Раньше Настасья все удивлялась: почему рознюхи по утрам доносят, что неревские больше за Булавина, а если спрашивают после обеда – выходит, что больше за Ананьина?
Вчера узналось, что это неревские попы, подкупленные Марфой, во время обедни хвалят прихожанам Аникиту Ананьина. Завтра по всему городу будут служить торжественную службу – так бывает всегда перед кончанским вечевым днем. Тут-то попы неревским напоследок в уши яду и вольют. Беда…
Настасья поднялась, взяла посох – от его постука лучше думалось. Походила по светлице от окна к двери, пораскинула.
– Эй, Лука!
Вошел письменник.
– Собери в кожаный кошель золотых кораблеников – двадцать. Нет, тридцать. И вели заложить парадную колымагу.
Пока запрягали, Каменная сходила на сыновнюю, верней невесткину половину проведать, как оно там. Выборы выборами, но всякий день по меньшей мере дважды боярыня заглядывала к Олене спросить о здоровье.
На лестнице разулась, пошла дальше в одних чулках. Вдруг спит? В бабьем деле чем больше спишь, тем лучше, а хуже всего – разбудить черевую не ко времени. От испуга может всякое выйти.
Во всем доме уже третий месяц полы были устланы шкурами, двери каждодневно смазывались, а говорили все вполголоса – за крик боярыня велела бить батогами.
Жирные петли не скрипнули, удалось приоткрыть, посмотреть в щелочку.
Олена не спала, сидела на лавке. Юраша лежал, как котенок, положив голову ей на колени, а она перебирала ему волосы, почесывала.
При свекрови у Олены такого мягкого, нежного выражения на лице никогда не бывало. Надо же – и вправду любит урода. Чудна́я страна – женское сердце.
Настасья нарочно посохом пристукнула, потянула дверь.
Невестка встрепенулась, улыбку с лица стерла – будто опустила железное забрало.
Живот уже виден, торчит огурцом. Неужто мальчика носит? Лучше бы, конечно, внучку, но ладно, сгодится и внук.
– Что вы всё крадетесь, маменька? – недовольно сказала Олена. – Без стука заходите. Засов мне, что ли, поставить?
– Разбудить боялась, – кротко молвила Каменная. – Всё-всё. Поглядела одним глазком, ухожу.
* * *
В колымаге, подпрыгивающей на досках мостовой, Настасья ехала еще с умилением на лице, но взгляд уже отяжелел. Прикидывала, как вести разговор с владыкой.
Сначала показалось, что разговора вовсе не будет. К боярыне вышел главный софийский ключарь Пимен, верный Марфин прихвостень. Сказал почтительно, пряча в глазах глум, что владыка никого ныне не принимает, хвор. Сразу стало понятно, кто водит Феофила на ремешке.
Качнув мешочком, в котором звякнуло золото, Григориева сочувственно молвила:
– Ну, здоровьица преосвященному. Хотела я ему подношение сделать, чтобы помолился за благополучное разрешение моей невестки, но коли хвор, поеду к настоятелю Святой Софии, а владыке после отпишу, чтобы не обижался.
Ключарь закряхтел. Знал: Феофил ему не простит, что щедрый дар мимо уплыл.
– Доложу, – нехотя сказал Пимен.
Вернувшись, хмуро буркнул:
– Иди, боярыня. Недолго только.
– Ага, – поглядела сквозь него Настасья.
* * *
…Архиепископ сидел у себя в келье нахохленный, несчастный, встревоженно хлопал воспаленными глазами. Ему, старику, перед выборами тяжко: давят, тянут со всех сторон. Но и мзду несут, много.
Григориева опять позвякала мешочком, и взгляд преосвященного ожил. Феофил хорошо умел отличать золотой звон от серебряного.
Ознакомительная версия.