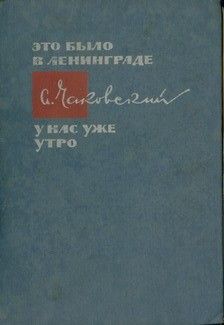Я выбежал на дорогу. Мне никто не встретился. В темноте дошёл до станции и вернулся в блиндаж. Печка погасла… Слегка похрапывал Корнышев. Она не приехала…
Я резко захлопнул дверь, и Корнышев проснулся.
— Вы не один? — вежливо спросил он.
— Она не приехала, — тихо ответил я.
— Да ну? — протянул Корнышев.
Связной принёс лампу и зажёг её.
— Вот досада-то! — сказал Корнышев с искренним огорчением. — Значит, в санупре задержали. Что-нибудь с оформлением… Ведь вам точно сказали, что она в нашу армию назначена?
— Николай Фёдорович, — сказал я, — как мне попасть в Ленинград?
— В Ленинград? Сейчас? Но поезд пойдёт только в десять утра. Да и что вам делать ночью в Ленинграде? Подождите до завтра. С вечерним поездом она, наверно, приедет.
— Нет, нет! — вырвалось у меня. Даже мысль о том, чтобы остаться здесь ещё сутки, казалась мне невыносимой.
Корнышев внимательно посмотрел на меня.
— Если уж обязательно хотите ехать, придётся потерпеть до утра. — И он подошёл ближе ко мне. — Возьмите себя в руки. Я вот уйду, а вы почитайте что-нибудь. Вот хотя бы «Записки врача». Книга отличная. Читали, конечно?
Он взял с полки книгу и протянул мне. Я взял её.
— Ну, до скорого… — сказал ласково Корнышев и вышел.
Я перелистал книжку и отложил её в сторону. Наступило полное бездумье. Мне было почти физически больно думать о чем-нибудь. Я не помню, сколько времени просидел так. Из оцепенения меня вывел голос Корнышева:
— Скорее, скорее, сейчас машина идёт в Ленинград! Идёмте, я вас провожу.
Николай Фёдорович стоял в дверях.
Я вскочил и схватил полушубок. Мы прошли по тропке, и я увидел тёмное очертание полуторки. Я залез в кузов.
— Ну, прощайте, — сказал Корнышев, тепло пожимая мне руку.
— До свидания, — ответил я, — сердечное вам спасибо.
…Мы въехали в Ленинград ночью, но на улицах было светло.
Взошла луна. И странное дело: как только я увидел серый ленинградский гранит, услышал мерный стук метронома, у меня стало спокойнее на душе.
Я вылез из машины на Дворцовой площади и через десять минут поднимался по лестнице «Астории». Навстречу мне с коптилкой в руках шёл Ольшанский.
— Где это вы пропадаете, синьор? — спросил Мефистофель.
Я ответил, что ездил в часть, и уже прошёл мимо, когда Ольшанский сказал:
— А тогда, в машине, девушка одна вами интересовалась.
Я обернулся к Ольшанскому. Он стоял, прикрывая огонь ладонью, и хитро улыбался.
— Я, правда, особенно не откровенничал насчёт вас, — продолжал он. — Кто вас знает, заинтересованы вы во встрече или нет?..
Я схватил его за полушубок.
— Ольшанский! — закричал я. — Прекратите эту болтовню! Где она? Что с ней?
Он испуганно посмотрел на меня.
— Она очень просила ваш адрес. Я уж думал, не наглупил ли, что упомянул вашу фамилию. Вы извините… но… кажется, она с утра сидит в вашем номере…
Я стоял на лестнице, прислонившись к перилам. Ольшанский что-то говорил, но я уже ничего не слышал. У меня стучало в висках и пересохло во рту. Мне казалось, что если я оторвусь от перил и сделаю шаг, то упаду тут же.
Тысячу раз рисовал себе нашу встречу, но никогда не думал, что потрясение будет так велико.
Потом я стал медленно подниматься по лестнице. Откуда-то проникал свет, и я не сразу понял, что это Ольшанский с коптилкой провожает меня. У моей комнаты я остановился, чтобы перевести дыхание. Потом тихонько толкнул дверь.
Лида сидела на подоконнике, вполоборота к двери, и смотрела в окно. Луна светила так ярко, что в комнате было светло, как в белые ночи.
— Лида! — произнёс я шёпотом. — Лида!
Она соскочила и стала, прижавшись спиной к окну.
— Ты?! — сказала она. — Наконец-то!..
…Я рассказывал Лиде о своих поисках, но она внезапно прервала меня:
— Какой ты… смешной в военной форме. Просто на себя не похож!
Мы стояли друг против друга у окна, и лунный свет падал на её лицо. Она казалась мне маленькой и хрупкой, и было видно каждую морщинку на её лице.
За окном на покрытой снегом площади высился Исаакий.
— Помнишь, как мы любили смотреть из окна на собор? — спросил я.
— Да. В белые ночи.
— Сейчас совсем как в белую ночь. Даже окно не замёрзло.
Мы стояли у окна и смотрели на площадь. Я обнял её и поцеловал. Мне хотелось стоять так всегда и не разжимать рук. Она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел в её глаза. Это и было счастье. Потом мы сели на диван. Говорили о чём-то совсем неважном: мы привыкали друг к другу.
— Ты была у Ирины? — спросил я.
— Нет. Я весь день прождала тебя в номере. Как я благодарна этому долговязому корреспонденту. Ведь это он сказал мне о тебе. Но, бог мой, как он перетрусил, когда я сказала, чтобы он немедленно повёл меня в твою комнату! — Она рассмеялась. У неё был глухой и немного печальный смех.
Я снова поцеловал её. У неё были холодные губы.
— Тебе холодно? — спросил я. Потом снял с неё валенки и закутал ноги одеялом.
— Здесь очень холодно, — ответила она и закрыла глаза. — И знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что я плыву в тёплой реке и попала в водоворот, такой медленный, и он так приятно кружит меня, и всё ясно, и дальше не надо плыть.
— Ты устала, дорогая? — спросил я.
Она открыла глаза.
— Нет. — Она улыбнулась. — Отчего мне устать, когда я весь день сижу и жду тебя?
— Голодная?
— Нет, почему же. Я получила паёк на два дня.
— Подумать только, — сказал я, — как много надо мне у тебя узнать. Ты столько пережила!..
— Не сегодня, милый. Поговорим завтра. Сегодня пусть будет так, будто мы никогда не расставались.
— Хорошо, — ответил я. — Это нетрудно. Ведь на самом деле мы никогда не расставались.
Я был счастлив, но думал о другом безмерном счастье. Мне хотелось, чтобы эта наша разлука была последней и чтобы мы никогда больше не расставались. С этой женщиной я чувствовал себя готовым на любой труд и любой подвиг. Раньше она была моим сердцем, моей любовью. Сейчас она стала источником моего мужества.
— О чём ты думаешь, милый? — спросила она.
— О том, какое было бы счастье больше не расставаться.
— Это же невозможно! Послезавтра я должна ехать в часть. Два дня я выпросила в санупре. День уже прошёл.
— Ты получишь ещё три, — ответил я и рассказал о встрече с Корнышевым.
— Целых три дня? — Она внезапно захлопала в ладоши, как ребёнок. — Целых три дня вместе?
Я стал целовать её холодные пальцы.
— Постараюсь приехать к тебе в часть, — сказал я. — Очевидно, я ещё некоторое время пробуду в Ленинграде.
— Ты был у меня, за Нарвской?
— Был. Дом почти разрушен. Я с трудом отыскал твою комнату. У окна, где мы с тобой пили чай, сидит артиллерийский наблюдатель Мухтар Тажибаев. Я тебе как-нибудь расскажу о нём.
— Ты, наверно, решил, что я пропала. Трудно было меня отыскивать?
— Сейчас кажется, что нетрудно. Сейчас мне кажется, что я отыскал бы тебя где угодно.
Она нагнулась и поцеловала меня в затылок.
— Как ты думаешь, — сказала она, — когда кончится война?
— Не знаю. Думаю, что через год. Или полтора.
— Какой это будет чудный день!.. Просто не верится. Что ты будешь делать в первый день после войны?
— Поеду в Ленинград.
— Ты же живёшь в Москве!
— Мы будем жить в Ленинграде. Я думаю, что теперь нигде не смогу жить, кроме Ленинграда.
Мы молчали. Внезапно она рассмеялась.
— Что ты смеёшься?
— Нет, просто так. Я вспомнила, какой растерянный вид был у твоего корреспондента. Как его фамилия?
— Ольшанский.
— Ей-богу, он почему-то не хотел допустить мысли, что я твоя жена.
— Дурак!
— Но ведь он прав. Я ведь и правда не твоя жена.
— Ты мне больше чем жена.
— И ты мне больше чем муж. Поэтому мне и смешно.
Она положила руку мне на лоб. Рука была по-прежнему холодной.
— Тебе всё-таки холодно, Лидуша, — сказал я. — Ложись в постель. Раздевайся и ложись.
Я встал и отошёл к окну. Когда обернулся, она сидела по-прежнему, обхватив колени руками.
— Я… я не хочу спать, — сказала она тихо. — Лучше посидим вдвоём.
Она смотрела на меня, и я заметил испуг в её глазах. Потом она резко встала и стала расстёгивать пуговки на гимнастёрке. Подошла ко мне.
— Ты был… на Ладоге? — тихо спросила она.
— Да, — твёрдо ответил я. — Я был в палатке, где ты жила. И разговаривал с ним.
— Ты… ни о чём не хочешь спросить меня?
— Нет, — уверенно сказал я и поцеловал её. Я увидел слёзы на её ресницах и вытер их губами.
…Было тихо и светло, как в белую ночь. Мы лежали в постели. Потом я услыхал звуки рояля. Лида тоже услышала их.
— Что это? — спросила она. — Рояль?
— Да, — сказал я. — Это Чайковский. Старик один играет. Музыкант. Я услышал его в первую ночь, когда приехал.