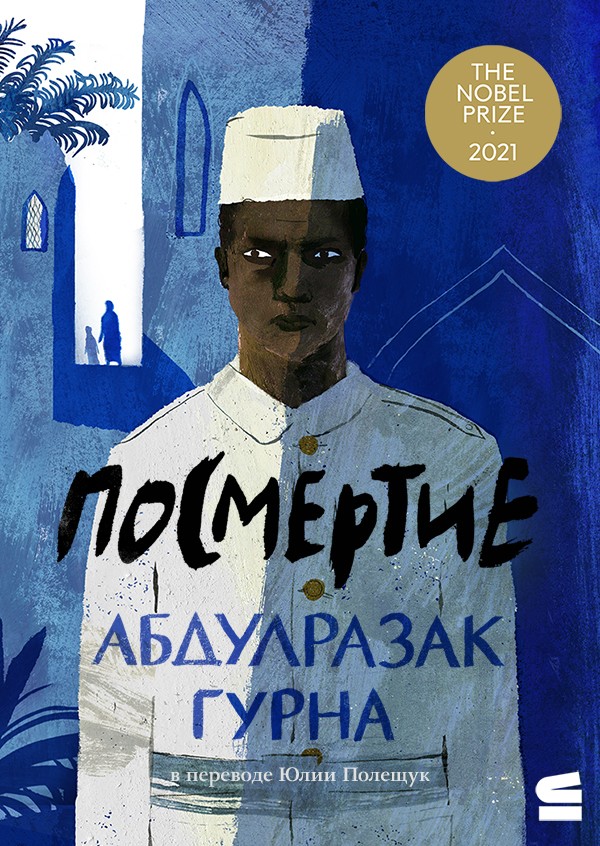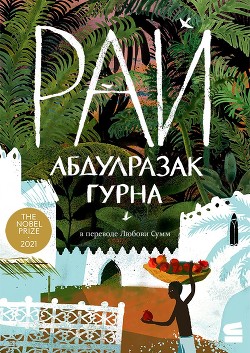умирали в разоренных краях. Впоследствии эти события превратят в истории о нелепом и беспечном героизме, интермедии великих трагедий в Европе, но для тех, кто их пережил, то была пора, когда их земля утопала в крови и была усеяна тру-пами.
Офицеры тем временем старались поддерживать европейский престиж. Когда разбивали лагерь, немцы располагались отдельно от аскари и спали на походных кроватях под москитными сетками. Если бивак был близ реки, офицеры всегда находились выше по течению, аскари ниже, а рабочие и скот еще ниже. Каждый вечер офицеры собирались за ужином и как могли блюли этикет. Они не занимались никаким физическим трудом — для этого есть рабочие и аскари: они-то и носили снаряжение, добывали продовольствие, обустраивали биваки, готовили, мыли посуду. Офицеры держались поодаль, ели отдельно и неизменно требовали к себе уважения. Теперь вся шуцтруппе, от офицеров до солдат, ходила в обносках, снятых с убитых врагов и с товарищей, и кое-кто из аскари усматривал в этом позволение щеголять плюмажами и знаками отличия, хотя офицеры расхаживали с таким гордым видом, будто на их ремнях по-прежнему серебрятся пряжки, а на плечах золотятся эполеты. Аскари тоже блюли свою честь. Настаивали, что грузы таскать не будут, это ниже их воинского достоинства: для этого есть рабочие.
Из офицеров бомы в роте по-прежнему оставался врач и фельдфебель Вальтер по прозвищу Джогу. Двух офицеров убили во время отступления от Руфиджи, их заменили офицером из военного оркестра и добровольцем из поселенцев. Трех перевели в другие роты. Все аскари, вступившие в шуцтруппе примерно тогда же, когда и Хамза, погибли, сгинули без вести или попали в плен. После месяцев и лет изнурительных маневров и неудачных стычек с противником оставшиеся в роте солдаты измучились, пали духом. Врач похудел, отпустил густую медную бороду. Он постоянно был занят, лечил раненых и заболевших, ежедневно раздавал солдатам хинин, пока не иссяк запас. Врач экономил его, как мог, поэтому рабочим хинина больше не выдавали. Санитар по-прежнему был с ним, все такой же флегматичный и долговязый. Врач держался еще бодрее, чем в лагере, знай себе похохатывал, занимаясь своей страшной работой, но бодрость его держалась на бренди и кое-каких веществах из походной аптечки, запас которых он неусыпно стерег. Каждые два дня его била малярийная лихорадка, укладывала на несколько часов в постель. Эти приступы не проходили даром, и всякий раз врач поднимался с постели еще более похудевшим, а улыбка его слабела.
Фельдфебель совсем озверел, ярился по любому поводу: гнев его подпитывала банги и отобранная у сельчан брага из сорго. Он никогда ничем не болел, хотя всем прочим офицерам случалось занедужить. Он совершенно распоясался и частенько бивал аскари и рабочих тем, что под руку попадется: стеком, хлыстом, палкой. Его презрение и ненависть к местному населению, чьи земли опустошали аскари, лишь усилились. Он считал сельчан дикарями и отзывался о них злее, чем о врагах-британцах. К Хамзе он питал глубокое отвращение и наказывал его за малейший проступок, порой выдуманный. Хамза старался не попадаться ему на глаза, но порой ему казалось, что фельдфебель нарочно его ищет.
Хамза ни на шаг не отходил от обер-лейтенанта (таково было распоряжение командира); у одних офицеров эта близость вызывала возмущение, у других — насмешки, у фельдфебеля — лютую ненависть. Аскари одолевали Хамзу жалобами, просили передать их командиру. Хамза кивал, но ничего не говорил. В сумерки ему было велено раскатывать тюфяк подле кровати офицера и час-другой заниматься немецким (офицер по-прежнему называл это разговорной практикой). После занятий Хамзе следовало взять тюфяк и убраться к прочим аскари. Иногда в темноте офицер протягивал руку и касался Хамзы. Ты еще здесь. Ты лежишь так тихо, говорил он. Хамза недоумевал, что ему надо. В объятиях офицера он чувствовал себя как в ловушке, ему претила эта вынужденная близость, хотя на войне избегать ее было проще, чем в лагере. В полевых условиях у командира было дел куда больше, чем в боме: аскари совершали набеги, скрывались, искали пропитание, так что немецким он с Хамзой занимался поверхностно.
Чем труднее им приходилось, тем меньше оставалось от презрительной насмешливости офицера: теперь он часто замыкался в себе, держался холодно, подолгу молчал, погрузившись в уныние. Прочие офицеры-немцы поддерживали дух товарищества, пусть и мрачный: по сравнению с ними замкнутость обер-лейтенанта бросалась в глаза. Лишения и война ослабили многих, офицера же заставили уйти в себя: он теперь колебался там, где прежде отдавал приказы, не раздумывая. Стал раздражительнее с офицерами и аскари, беспощаднее к жителям, чьи деревни грабила шуцтруппе, порой накладывал суровые наказания за так называемые акты саботажа: велел припасы отобрать, а хижины сжечь. В одной деревне офицеры предложили казнить некоего старика: тот отказался открыть, где закопан батат (тайник удалось найти лишь после того, как аскари избили деревенского парнишку и заставили говорить). Командир выслушал просьбу подчиненных, опустил глаза, кивнул и ушел прочь. Фельдфебель выстрелил старику в голову.
Сотни кошмарных километров, которые они с таким трудом преодолели, Хамза выполнял все приказы, какие офицер находил необходимым отдавать в столь тяжких обстоятельствах, и как мог заботился о нем. Хамза старался не привлекать к себе внимания. Шагал с отрядом, бегал, пригнувшись, как учили, стрелял, когда требовалось, но вряд ли в кого-то попал. Он наклонялся, вилял, кричал, как другие аскари, но стрелял по теням, мимо цели. По чудесному везению ему не довелось ходить в рукопашную, он ухитрился не участвовать в казнях сельчан, которых солдатам приказывали расстрелять за измену или обман. Он вместе со всеми ел краденое, видел, как опустошают деревни, и вместе со всеми спешил прочь. Страх снедал Хамзу с той самой минуты, когда он с первыми лучами зари открывал глаза, но к вечеру он так выматывался, что уже ничего не боялся, — без бравады, без рисовки, отстраненно наблюдал за происходящим, готовый ко всему, что может случиться. Порой он впадал в от-чаяние.
О войне в Танге долго еще говорили по всему побережью, но для большинства она ограничилась незадавшимся нападением — затем наступило затишье. Все вышло ровно так, как предполагали: британцам не тягаться с шуцтруппе. Чем дальше от Танги расходились слухи, тем более молва преувеличивала жестокость и дисциплину аскари, хаос и панику, царящие в рядах индийских войск (всеобщее мнение было таково, что больше всех паниковали индийцы). Халифа предположил, что Ильяс непременно напишет им о победе германской армии, не утерпит и воспоет хвалу шуцтруппе, но вестей от него так и не пришло.
Чтобы отомстить за поражение, британский флот