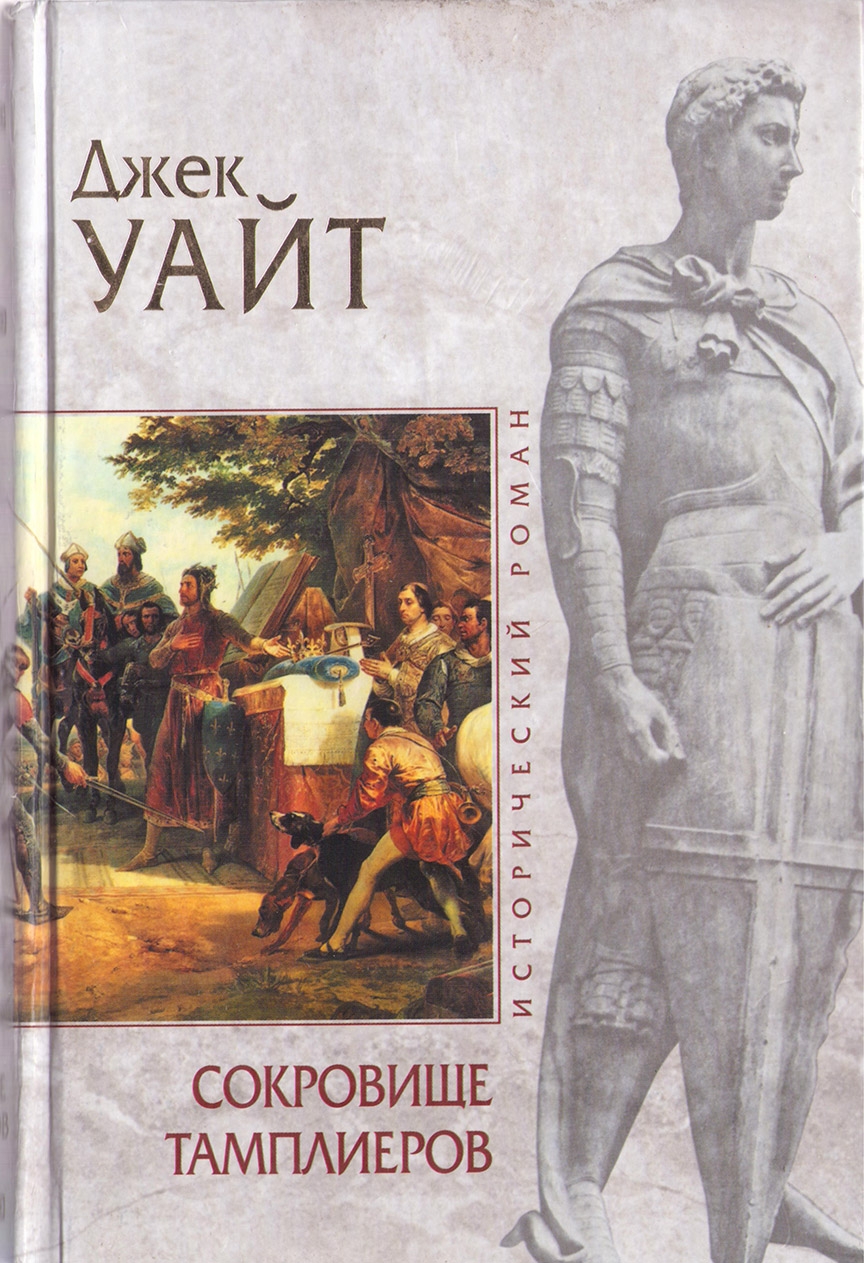— В Шотландии, где я вырос, тусклый свет в это время года не угасает часами даже после захода солнца. Во французском языке для такого явления нет подходящего слова, но мы называем время между днём и ночью вечерней зарёй... Даже больше, чем наши потери, меня беспокоит само поражение при Хаттине. Поражение, а не потери, хотя, видит Бог, они ужасны. Насколько мне известно, ваш султан не из тех, кто может упустить возможность, дарованную ему Всевышним. А победа, которую он одержал при Хаттине, в его глазах выглядит именно так. Вот почему я подозреваю, что к этому времени Тивериада уже сдалась ему. Полагаю, люди Саладина заняли также Ла Сафури, а может, и Назарет. Будь я на его месте, во главе победоносной армии, сознавая, что силы франков если не уничтожены, то пребывают в состоянии хаоса, я бы немедля пошёл на Иерусалим.
Синклер выпрямился и снова повернулся к сарацину.
— Боюсь, из-за этого мне некуда бежать... Когда ты молился в последний раз?
Аль-Фар ух призадумался.
— Не так давно, в положенный час. Ты уже был здесь тогда, просто не ничего заметил.
— А разве тебе не положено молиться, обратясь к востоку? Сарацин улыбнулся.
— Аллах требует наших молитв, но в милосердии своём не настаивает, чтобы люди истязали себя, если они больны или увечны. Когда я поправлюсь, я буду молиться как подобает, а до тех пор — как смогу.
— Что ж... А когда ты в последний раз справлял нужду? Сарацин широко распахнул глаза, потом пожал плечами. — В то утро, когда уехали мои друзья. Но я мало ел с тех пор, поэтому настоятельной необходимости в том нет.
— Но ты поел сейчас. Ты сможешь передвигаться, если я тебя поддержу?
— Пожалуй, да.
— Хорошо. Твои друзья вырыли отхожую яму?
— Да, неподалёку, но всё же на подобающем расстоянии. Нужник в десяти шагах справа от укрытия.
— Если я помогу тебе туда добраться, ты справишься дальше сам?
— Да, справлюсь.
— Хорошо. Итак, если я помогу тебе встать и идти, ты не будешь пытаться меня убить?
В глазах сарацина промелькнул едва заметный намёк на улыбку.
— Уж никак не раньше, чем ты проводишь меня обратно, хоть я и дал клятву истреблять всех неверных при каждом удобном случае.
Синклер хмыкнул и шагнул вперёд, протянув здоровую руку.
— Да будет так. Давай посмотрим, удастся ли нам поднять тебя на ноги. Будь осторожен с моей левой рукой: она сломана так же основательно, как твоя нога, зато забинтована куда как хуже. Когда ты поднимешься, мы выйдем, и я оставлю тебя справлять нужду. Когда закончишь, кликни меня; я приду и помогу тебе вернуться.
Когда они покончили с делами в отхожем месте, совсем стемнело, и они снова устроились в образованное скальным выступом убежище. Некоторое время рыцарь и сарацин толковали о случайных, незначительных вещах. Но всё было спокойно, оба устали и были слабы, поэтому довольно быстро погрузились в сон. Засыпая, Синклер успел подумать, что не мешало бы ему проснуться пораньше и на всякий случай убраться подальше отсюда.
* * *
Синклер проснулся оттого, что рот ему закрыла мозолистая ладонь. Он дёрнулся, но тут же замер, почувствовав у горла холод ножа. Рыцарь лежал неподвижно в ожидании смерти. Рассвет ещё не наступил, Синклер слышал, что вокруг кто-то движется. Да, ему следовало предвидеть, что всё обернётся именно так.
— Кто этот неверный пёс? Перерезать ему горло?
Голос прозвучал прямо над головой Синклера, и рыцарь почувствовал, как лезвие сильней надавило на его горло. Удар ножа казался неминуемым, но, когда тамплиер сжался в ожидании неизбежного, прозвучал непререкаемо властный голос аль-Фаруха, и рука с ножом застыла.
— Нет! Не трогай его, Сабит. Он делил со мной хлеб и соль, и я его должник.
Человек по имени Сабит фыркнул и сел на корточки, убрав руку с лица Синклера. Однако нож от горла франка не убрал, хотя теперь не давил на рукоять.
— Как ты можешь быть должником ференги, амир?
В голосе Сабита звучало нескрываемое отвращение.
— Он неверный, ты не можешь быть связан с ним нашими священными законами. Что за смехотворная мысль!
— Ты считаешь уместным смеяться надо мной за то, что я проявляю милосердие, Сабит?
Сурового тона слов аль-Фаруха оказалось достаточно, чтобы Сабит убрал нож от горла Синклера.
— Нет, амир. Я лишь хотел...
— Ты лишь хотел оспорить моё решение, полагаю.
— Никогда, амир.
Сабит встал на колени и выпрямился, заглядывая в лицо своему господину.
— Я просто подумал...
— Странно, Сабит. Я и не подозревал, что ты умеешь думать. Но от тебя не требуется раздумий, лишь повиновение и верность. Ты согласен со мной?
— Как будет угодно амиру.
Синклеру не нужно было видеть лицо Сабита, чтобы понять, как тот пал духом.
— Превосходно. Теперь поблагодари Аллаха за его милосердие и моё хорошее настроение, а потом отведи ференги туда, откуда он не сможет услышать наш разговор. Он заявил, что не понимает нашей речи, но мне кажется, есть смысл проявить осторожность, поскольку нам многое нужно обсудить.
— Аллах акбар. Слушаю и повинуюсь, амир.
Когда Сабит поднялся на ноги, аль-Фарух перешёл с арабского на раскатистый, с сильным акцентом французский язык:
— Зря ты не уехал прошлой ночью, Лак-Ланн, ибо теперь ты пленник. Мой помощник Сабит — хороший человек, но он начисто лишён гибкости и широты взглядов. Он готов был перерезать тебе горло.
— Догадываюсь, — пробормотал Синклер, стараясь говорить невозмутимо. — Благодарю, что спас мне жизнь.
Он поколебался.