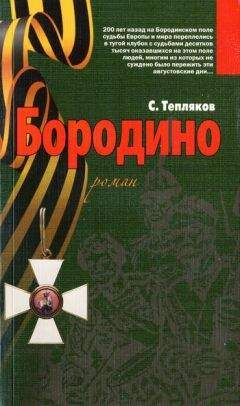Ознакомительная версия.
– Дело такое жаркое, что я, наверное, тебя больше не увижу… – сказал Огюст Коленкур брату, до которого не сразу доходил смысл этих жутких слов. – Мы добьёмся торжества, или же я буду убит.
И прежде чем Арман успел сказать хоть что-то, Огюст пошёл к лошадям. Арман с побелевшим лицом и пересохшими губами смотрел ему вслед. «Что же делать?! Что же делать?! – мысли в голове путались. – Остановить? Но как? Да он и не остановится – как же он может не исполнить приказ императора? Неужели он правда чувствует? Но разве это бывает вот так?». Арман Коленкур участвовал в боях ещё в 1799 году, давно и недолго, сам с предчувствиями смерти не сталкивался, а рассказы о таких предчувствиях слушал с недоверием. Теперь же ему не хотелось верить особенно.
Огюст Коленкур тем временем вскочил на лошадь и понёсся по полю, сопровождаемый своим адъютантом. Он понял, что сказал ему Наполеон, напоминая об Арсобиспо.
Наполеон помнил большие и мелкие эпизоды разных больших и мелких битв, боёв и стычек, как опытный шахматист помнит бесчисленное количество шахматных партий – из этого числа ему остаётся только выбрать то, что в данную минуту сулит победу. При Арсобиспо в Испании в 1809 году Коленкур переправился с отрядом драгун через реку и ударил неприятелю в тыл. Так Наполеон несколькими словами пояснил своему генералу, как он представляет его действия.
Однако даже на шахматной доске редко какая партия играется чисто, без сюрпризов со стороны соперника. На поле боя сюрпризом становится любой ручей, любая пушка, любой решивший держаться до конца неприятельский взвод. Поэтому Коленкур, явившись к командовавшему атаками русского центра Мюрату, рассказал ему о поставленной императором задаче – атаковать редут с тыла, – и уже вместе с Мюратом, его начальником штаба Бельяром, командиром 4-го кавалерийского корпуса Латур-Мобуром, и ещё несколькими офицерами они уставились на курган, почти до самого подножия окутанный пороховым дымом, решая, как же добраться до вершины этого вулкана и удержать его за собой. К этому времени французы уже предприняли несколько кавалерийских атак, но результатов это не дало. Мюрат, услышав, что Коленкуру велено атаковать редут с тыла, покрутил головой.
– Это опасная затея! – сказал он. – Хотя в этом есть смысл: когда вы отрежете редут с тыла, мы сможем захватить его с фронта. Вместе с кавалерией Латур-Мобура вам надо будет выйти к редуту с юга, оттеснить русскую пехоту и атаковать редут с фланга. Если русские отобьют вас, возвращайтесь тем же путём.
Коленкур усмехнулся – он чувствовал, что возвращаться не придётся.
– Я буду на редуте, живым или мёртвым! – сказал он Мюрату и тот внимательно посмотрел на него.
– Атакуйте после того, как вам передадут мой приказ… – сказал Мюрат.
Коленкур выехал ко 2-му корпусу, стоявшему южнее под огнём русского укрепления. Старшие офицеры корпуса смотрели на него угрюмо, у молодых адъютантов Монбрена лица были мокры от слёз.
– Не плачьте о нём, а идите отомстить за него! – сказал им Коленкур. – Нам недолго ждать приказа к атаке.
Так и вышло – вскоре приехал гвардейский офицер с приказом. Коленкур собрал полковников и распределил, кому в какой линии следовать. Затем сказал, кому из них принять командование, если он будет убит. Затем сказал главное: «Редут надо взять при первой же атаке…» – он почему-то знал, что до второй не доживёт.
И только когда полковники разъехались по своим частям, Коленкур отъехал в сторону – он знал, что наступили последние минуты его жизни и хотел хоть несколько из них заполнить любовью. Коленкур достал из кармана портрет своей молодой жены. Свадьба их состоялась перед самым походом, в апреле, они и насладиться друг другом не успели. Вчера накануне битвы Коленкур всё смотрел на её портрет, вспоминая её всю – руки, губы, объятия и вздохи, то мурлыканье, которое она издавала в минуты любви. Обычным делом было, когда молодые вдовы, погоревав, выходили замуж. «Неужели и с ней будет так же? – подумал Коленкур, чувствуя ужас – не от того, что вот сейчас он умрёт, а от того, что так быстро он будет забыт той, дороже кого не было у него на свете. – Вот ведь и другие жены так же, наверное, любили своих мужей, а утешились. Впрочем, что же ей – умереть на моей могиле?». Но к мысли о том, что через какое-то время она вот так же будет мурлыкать при прикосновении других, не его, рук, привыкнуть оказалось труднее, чем к мысли о смерти. Он так и не привык к ней, трогая с места коня и крича офицерам:
– За мной! За мной! Да здравствует император!
Корпус Раевского к моменту атаки Коленкура был совершенно разгромлен и курган занимали полки 24-й дивизии генерала Петра Гавриловича Лихачёва. Он был постарше многих в русской армии, но в свои 54 года оставался генерал-майором. Причиной тому была, видимо, долгая служба Лихачёва на Кавказе – хотя он сделал там немало, но как раз в эти годы европейский театр войны приковывал к себе всё внимание государя и забирал себе все награды.
На подходах к Бородинскому полю генерал Лихачёв простудился. Он ещё надеялся поправить здоровье ко дню битвы, но вчера вечером понял, что не поправил. Слабость в рука и ногах была такая, что утром, чтобы выйти из палатки, пришлось просить адъютантов помочь. Однако и речи не было о том, чтобы не участвовать в битве.
Полки 24-й дивизия были поставлены вокруг кургана почти сразу после отражения атаки Бонами – уже тогда от корпуса Раевского мало что осталось (Томский полк, участвовавший в атаке, был из состава 24-й дивизии). С этого времени полки находились под артиллерийским огнём – не только с фронта, но и, после взятия французами флешей и продвижения вперёд, с фланга. Потери были огромны. Лихачёв понимал, что по причине слабости не сможет объезжать линию своей дивизии и выбрал для себя место на самом редуте – здесь, в углу укрепления, поставили ему складной стульчик, на который он сел.
Тысячи мертвецов лежали к тому времени на кургане и на подступах к нему. Кавалерия ходила в атаку по ковру из человеческих тел и, отбитая огнём, возвращалась, устилая на этот ковёр новый слой.
Лихачёв сидел на своем стульчике, иногда сам удивляясь тому, как он ещё жив. Неподалеку, впереди от него, орудовали артиллеристы. То и дело кого-то из них ранило или убивало, но у артиллеристов не пропадало весёлое настроение, а может, от этого оно делалось ещё веселее. Вдруг взрыв грянул совсем рядом с одной из пушек, и Лихачёв увидел, как один из пушкарей с криком катается по земле, зажимая правой рукой левое плечо, из которого хлестала кровь. Левой руки у него не было.
– Рученька моя, рученька! – кричал солдат.
К нему бросились двое других солдат, потащили подальше от орудия, и, когда они проходили мимо, Лихачёв услышал, как один артиллерист говорит раненому:
– Жаль твою рученьку, а вон смотри, Усова-то совсем повалило, а он и то ничего не говорит!
Лихачёв оглянулся – возле пушки, забросанный землёй, лежал ещё один артиллерист, должно быть тот самый Усов.
«Жизнь – шутки, и смерть – шутки… – подумал Лихачёв. – Кому скажи – не поверят».
Тут он уловил какую-то перемену в тоне артиллерийской стрельбы, как бывает слышно по шуму дождя за окном, стал ли он сильнее или слабее. «Добавили что ли пушек? – подумал он. – Не к добру».
– Михайло Иванович, – позвал он к себе адъютанта. – Прикажите сказать в полках, что сейчас, видать, опять пойдут…
Это был тот самый момент, когда на русский центр обрушился огонь 150 пушек, а Коленкур во главе 34 полков кавалерии двинулся вперёд. Атака на этот раз была такой силы, что французы прорвали русский фронт. Построенные в каре полки 24-й дивизии стреляли во все стороны, но кавалерия, не обращая на них внимания, частью бросилась по склону кургана наверх, частью продолжила движение вперёд, расширяя прорыв.
Коленкур был во главе 5-го кирасирского полка, атаковавшего курган. Перед глазами у Коленкура мелькали русские солдаты, силившиеся достать кавалеристов штыками. Лошадь его хрипела, она озверела от запаха крови и сейчас неслась так, что её было не остановить. Кирасиры шли линиями, пригнувшись к лошадиным гривам и подняв палаши высоко над головой. Коленкур увидел разломанный палисад, из которого клубами валил дым. Всадники бросались прямо в этот дым и пропадали там. Коленкур пришпорил коня, хотя тот и не нуждался в этом. И тут, в нескольких шагах от себя, Коленкур увидел русского, целившего ему прямо в лоб. Он даже успел его немного разглядеть: закопченный, с чёрным измазанным лицом и чистыми синими глазами, Коленкур ещё удивился – совсем как у его жены… Солдат выстрелил и Коленкур ещё успел увидеть этот дымок, а затем мир пропал для Коленкура навсегда…
Барклай находился позади русского центра и видел, как массы французской кавалерии частью захлестнули Шульманову батарею, а частью разлились по полю. Момент был критический, но Барклай готовился к нему. Напротив центра была поставлена вызванная из резерва 1-я кирасирская дивизия гвардейской кавалерии генерала Бороздина, и едва корпуса Коленкура и Латур-Мобура прошли через русскую пехоту, Барклай сам повёл дивизию против них, надеясь хоть сейчас встретить свою пулю. Началась страшная схватка. Тысячи латников бросались друг на друга. Солнце сияло на касках, палаши гремели о кирасы. Издалека от свалки слышен был странный звук: звон, скрежет и крики. По полю носились сотни лошадей, целые табуны лошадей без всадников. Вырвавшиеся из свалки полки, как русские, так и французы, собирались, строились и снова шли в атаку. Исступление достигло предела. Русский генерал Киприан Крейц, командир драгунской бригады, к двум часам пополудни был ранен уже трижды, но приказал адъютантам посадить его на лошадь и снова повёл в атаку свои поредевшие полки. Они схлестнулись с французской конницей, и Крейца в схватке ранили ещё три раза – порубили и искололи. Только после этого его унесли в лазарет. Однако полки из бригады Крейца остались на месте – они тоже знали, что «всякий человек теперь нужен». В пятом часу вечера остатки дивизии Бороздина и кавалерийские корпуса генерала Фёдора Корфа пошли в атаку на французов. Возможно, именно в этот момент и решалась судьба битвы. Конница Коленкура и Латур-Мобура была рассеяна. После этого Корф собрал тех, кто ещё мог держать оружие и приказал удерживать место за собой, стоять и умирать, умирать, но стоять.
Ознакомительная версия.