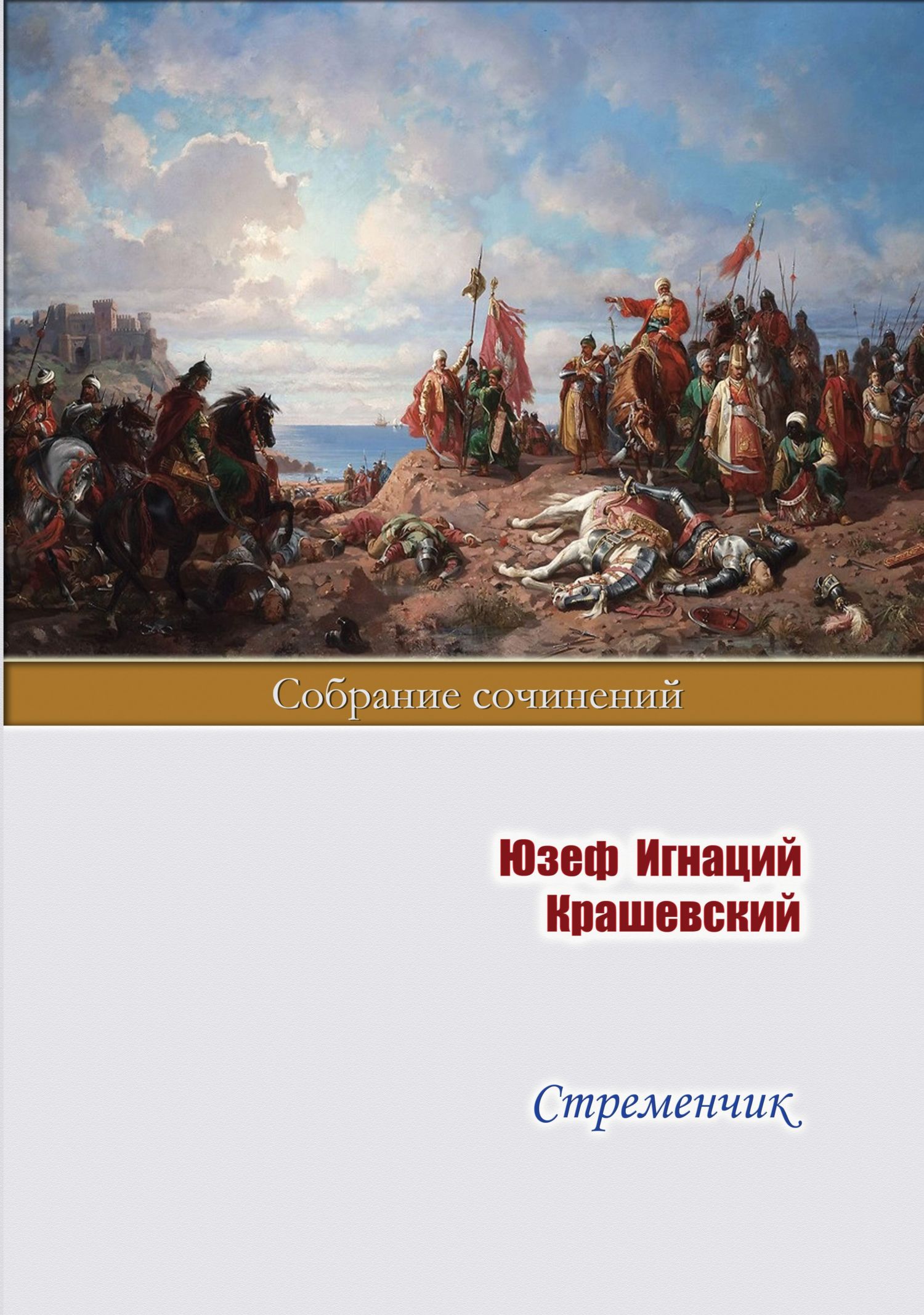class="p1">– Стало быть, кого? – спросил немного обиженный старый профессор, который, слушая, надувал губы.
– Пусть на это отвечает история, не я, – произнёс Гжесь, – поэты золотого века Августа есть наилучшим украшением; далее, когда государство при цезарях под их кровавым пурпуром клонилось к упадку, с обычаями портился язык. Как в больном человеке тело вздымается, желтеет и морщится, так в больном народе речь становится дряхлой.
Покачали головами, но никто противоречить не смел.
– Я спрашиваю, – отозвался через минуту старик, – кого ты возьмёшь для лекции?
Гжесь немного помолчал, как бы не думал, но хотел этим пробудить больше любопытства. Огляделся и улыбнулся.
– Как вы думаете? – спросил он.
– Мы видим уже, – вставил другой из панов коллегиатов, – что вас, Грегор, угадать трудно. Вы хотите новшеств и они вам по вкусу.
– В самом деле, я так их желаю, как новые ботинки, когда старые башмаки сжали ноги и порвались на них, – ответил Стременчик, – новшество имеет в себе то, что пробуждает и манит умы. И это что-то стоит. Что говорить, когда оно по-настоящему красивое и притягательное?
Может ли кто писать более красивым языком, более звучным виршем, чем волшебник Вергиллий?
Ропот приветствовал это знаменитое имя, но в школах не распространённое. Не читали в них ни «Селянок», ни «Георгик», не решались покуситься на «Энеиду». Старшие пожимали плечами. Читать Вергилия! Была это неслыханная дерзость.
Должен ли был новый бакалавр в самом деле хвататься за Вергилия? Не верили.
Старым удобным было повторять то, что слышали, не ломать себе голову над трудностями нового перевода.
– Начну с «Эклог», – сказал Гжесь смело. – «Эклоги» и «Георгики» в земледельческом краю, как наш, легко будет понять и полюбить. У нас также деревня и земля представляют жизнь. Через эту поэзию я попаду на грамматику и понимание обоих облегчу.
В первые минуты, во время пира, приняли объявление за хвастовство. За спиной Гжеся старики, пожимая плечами, не верили его обещаниям.
Но не в этом одном предмете во время памятного пира Стременчик удивил своей смелостью седовласых магистров.
Несмотря на долгие годы учёбы, которые должны были его убаюкать и обуздать, недавно увенчанный бакалавр, казалось, молодо и слишком горячо на всё засматривается, слишком мало проявляет уважения к тем убеждениям и аксиомам, которые считали нерушимыми.
У другого стола начался философский диспут, в котором два оппонента, пустившись в схоластические формулы, начали друг друга больно колоть.
Речь шла о такой деликатной материи, о такой утончённой дефинции, о какой-то природе, существе, существовании, подхваченные в тучах нереальности, что спор не мог быть решённым, потому что был рассуждением, которому не хватало реальной основы фактов.
Все замолчали, восхищаясь несравненной диалектикой двух философов-теологов. Гжесь тоже слушал, но с язвительной усмешкой на губах, будто бы этот вопрос чрезвычайной важности считал спором de lana caprina.
Не смел он громко выразить своего мнения о предмете, к которому одно неуважение могли посчитать ересью, но лицо и черты его выдавали, что ему хотелось смеяться.
Стоявший рядом с ним юноша дотронулся до него, будучи любопытен, чью сторону он возьмёт. Спросил его об этом.
Гжесь пожал плечами, наклонился к его уху и шепнул на латыни:
– Vigilantium somnia! Сны наяву! Наощупить ищут правды, – добавил он. – В этих деликатных выводах мысли, как паутина, тонких и хрупких, нет ничего, только то, что эти учёные пауки себе наплели. Они не смотрят ни на человека, ни на природу, они мечтают. Я науку понимаю иначе; она нуждается в основе опытов и совокупности их. Только когда люди нагромоздят достаточно данных, что-нибудь из них на подкрепление можно будет вытянуть. Разве мы что-нибудь знаем? Добыли ли мы сами хотя бы зёрнышко? Даже из тех старых кладовых, которые насыпали греки и римляне, мы готового запаса не исчерпали. Развлекаемся – не учимся!
Молодой слушатель, может, плохо понимая всю дерзость этих утверждений, на то время слишком смелых, молчал, почти сконфуженный.
– Чему и как нужно учить по вашему мнению? – спросил он несмело.
– Всему, что нас окружает, – сказал Гжесь. – Мы живём, запертые в сказочном мире, который сами себе создали, пренебрегая природой и тем, что она нам легко могла бы дать. От муравья до верблюда всё есть предмет науки. Да и тот древний мир, что нам предшествовал, присыпан мусором, который бы нужно отгрести.
Всё, что в этот день говорил молодой бакалавр, так не вязалось с общепринятым, что его удивительные взгляды отчасти приписывали застольному опьянению, а некоторые принимали их за грязные шутки.
Один из старших магистров, который читал магистра Винсента (Кадлубка), начал рассуждать о красоте этой хроники, начертанной рукой благословенного и благочестивого мужа.
– Благочестивый муж был и перед его монашеским смирением нужно склонить чело, – отозвался Гжесь, – но хроника, видится мне, не слишком нужна для лекции в школе…
Лица нахмурились, руки поднялись. Нападение на этого почтенного мастера казалось покушением на славу народа и почти преступлением.
– Латинский в хронике, – сказал Гжесь, – не образцовый, стиль напыщенный, риторика – это не история. Хуже того, что, изучая эту историю, мы изучаем сказки, которые есть явным вымыслом, потому что летоисчесление искажается.
«То, что магистр Винцент в своей истории пишет о начале нашего народа, не только есть сказочным, но чудовищным.
Выводит наше старинное происхождение от потопа, именует нас скифами, с которыми воевал Александр Великий, а римского Гракха хочет считать у нас основателем грода, мечтая о родстве с обожествлённым Юлием, что ни с местом, ни со временем, ни с делами, совершёнными римлянами и Александром, не согласуется, а больше подходит для бабских баек у кудели…» [1]
Наступило грозное молчание. Сам бакалавр сообразил, что для начала зашёл слишком далеко. Старичок ксендз Вацлав, тут же сидящий, поднял седую голову.
– Всё это хорошо как игрушка, – сказал он, – но судя слишком сурово, на многое следует оглядываться. Научившись ломать и крушить, противоречить и отрицать, мы добьёмся того, что будет tabula rasa, не останется ничего, кроме чувства неведения и ничтожества.
Ты молод, – добавил он. – Те науки, содержание которых тебе кажется искалеченным, и так оно и есть, может, это всё-таки инструменты, которые развивают умы, это стимулы, что дают жизнь. А тот, кто выучит сказку, если вместе приобретёт ум и смекалку, от фальши легко отряхнётся.
Гжесь ничего не отвечал. Старые магистры громко потакали ксендзу Вацлаву. Ему сделалось жаль юношу и он затем поправился:
– Я хотел бы удержать вас от непомерного возмущения, – сказал он, – но той живости ума, какой вы даёте доказательства, не сдержать. Это похвально – покуситься на поиск истины… как Титаны небеса штурмовали, поэтому – тут