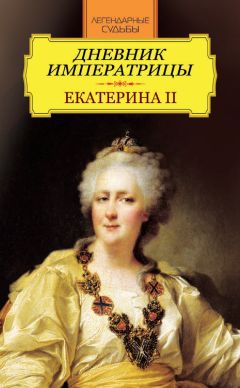Ознакомительная версия.
Замечание по поводу философских занятий последовало незамедлительно:
— Во дурак! Твоя философия ничто! Я тебе ломоносовскую библиотеку покажу да еще много что.
Владимир растерянно смотрел на столь вольно ведущего себя рядом с государыней брата. Да, верно говорили, что Гриша хозяин в Петербурге.
Императрица тоже чуть смутилась, знаком предложила сесть.
— Ваше Величество, ежели возможно, я бы в другой раз, после дороги в пыли…
— Хорошо, придете вечером на малый куртаг, за картами поговорим. Вы играете?
— Я? — почему-то испугался Владимир. — Нет… мало… но научусь, ежели нужно.
— Не нужно, но научиться придется, здесь все играют. Хотя бы в вист.
— Ладно, пойдем. Я тоже до вечера! — Не спрашивая разрешения удалиться, Орлов поднялся и потащил брата за собой, что-то рассказывая по дороге.
Вечером императрица, усадив младшего из Орловых рядом с собой, расспрашивала его о житье-бытье в Лейпциге и о его планах:
— Намерены ли служить?
Они говорили по-немецки, Владимир обратил внимание, что Екатерина на обоих языках говорит с акцентом: на русском с немецким, а на немецком с русским. Невольно улыбнулся, государыня спросила чему. Пришлось объяснить. Екатерина рассмеялась, развела руками:
— Немкой быть уже почти перестала, а вот русской еще совсем не стала… Может, по-французски?
— Я не люблю.
— А умеешь?
— Да.
— Станешь ли служить?
— Коли дело найдется…
— Найду. Пойдешь к Кириллу Григорьевичу Разумовскому в помощники. Он у нас президент Академии наук, тебя директором сделаем.
Владимир, кажется, чуть испугался:
— Я не ученый! Пока…
— А там учености не столько нужно, сколько честности да умения с людьми ладить. Но не попустительствовать, а ладить. Раньше меж собой дрались из-за споров всяких, один другого со свету сживали, а ныне Ломоносова в живых уж нет, драться не с кем, но толку от Академии чуть. Даже «Вольное Экономическое общество» и то больше делает.
Услышав такие слова, Григорий Орлов не преминул заметить, раздавая карты:
— А то! Я тебе, Володька, об «Обществе» еще не рассказывал…
— Дома расскажешь, после, — остановила его Екатерина. — Мне с твоим братом надо о деле поговорить.
— А у нас что, не дело, что ли?
Но императрица постаралась на обиду фаворита не обращать внимания, снова приступила к объяснению:
— В Академии воровство процветало всегда, и ныне не лучше. Кирилла Григорьевич слишком мягкий, справиться не может.
— А я смогу ли?
— Мне только нужно с деньгами разобраться, что на сколько идет и нужно ли столько. С воровством я сама разберусь. Но только с денежным, а есть еще воровство документальное, с ним тяжелее. По материалам много чего числится, а в действительности нет. Ладно бы посуда лабораторная, которая бьется, кресла домой утащить можно, перья и те украсть нетрудно, но нет документов важных. Никто ничего не ведает, куда запропастилось, не знают, да и что есть, тоже не знают. Вот чем заняться прошу. От философии далековато, зато России нужно. Нужно ревизовать все архивы, заново номера присвоить да записать, чтобы дальше неповадно красть было.
Григорий, прислушивавшийся к разговору, снова вмешался:
— Да кому те бумаги, особо старинные, нужны?
— Ты не прав, Гриша, многие нужны, многие просто важны. А ведь были и такие, что для истории России обязательны, а они пропали. Поди теперь, докажи чего… Разберись, Владимир Григорьевич. Я тебе любую помощь окажу, какая понадобится. И с деньгами разберись, не жаль средства выделять, жаль, что в карманы уходят. Разворовать все можно, даже такую прорву, как Россия.
Григорий хвалился перед братом:
— Вот, смотри, сколько земель заселили иностранцы, что в Россию приехали. А кто о них заботится? Я!
Екатерина только улыбалась, слушая такое хвастовство, но появление Владимира ее радовало. Пять дней Гришка не пьянствовал, брата то в бывшую лабораторию Ломоносова водил, то на полигон, где бомбы рвались, то во дворец в Гатчину. Горделиво демонстрировал свои успехи, хвастался планами… Императрице очень хотелось надеяться, что рядом со спокойным Владимиром и Гриша станет спокойней, может, это они с Алеханом так чудили, а теперь иначе будет?
Но на шестой день ни Григория, ни Владимира с утра не было. Это не понравилось Екатерине. К отсутствию фаворита она привыкла, а вот не пришедший в назначенное время Владимир расстроил, неужто забыл? Негоже забывать, императрица все же. Или Гришка уже научил и его обращаться с государыней, словно с деревенской бабой? Тогда худо, ей одного Григория за глаза хватит.
Расстроенная Екатерина подождала до послеобеденного времени, потом отправила к Орловым на Васильевский остров записку. Слуга вернулся со словами, что бумагу передал, но разговаривать с ним не стали.
По усмешке стало понятно, что там идет пьянка. Екатерина расстроилась окончательно. Пьяница не может надзирать за академиками, кабы хуже не получилось. Решила сама съездить и посмотреть.
То, что увидела, вывело из себя. Гришка спал, уткнувшись лицом в диван, а Владимир… нет, он не был пьян совсем, зато на пол-лица расплылся здоровенный синяк!
— За что он тебя?
И спрашивать не стоило, кто именно ударил, Екатерина хорошо знала тяжелую руку своего любовника.
— Так… пьяный был…
Внутри вскипело: да что же это такое! Из грязи в князи, но в какой грязи был, такой и остался! Резко повернула Гришку на спину и вдруг со злостью принялась хлестать по щекам:
— Швайн! Швайн! Швайн!
Сначала голова Орлова моталась из стороны в сторону, но потом он очнулся и вытаращил на любовницу глаза:
— Ты… меня… перед братом?! Ах ты ж…
Последовало грязное ругательство.
Владимир пулей бросился вон из комнаты, а Григорий уселся, наконец, на диване. Бешеные глаза налились кровью, но Екатерине было уже все равно. Она тоже вышла, грохнув дверью.
Хватит! Достаточно! Это ничтожество, получившее от нее все, что угодно, от огромного богатства до тела по ночам, ее же и обзывает?! Завтра же лишится всех своих чинов и званий, в Сибирь! Сам говорил, что Сибирь велика? Вот туда и отправится!
Она вернулась во дворец такая, что никто даже не посмел спросить, что случилось.
Велела дверь, ведущую в коридор к покоям фаворита, закрыть на ключ. Твердо решила больше не пускать и не разговаривать.
Он примчался следом, только переоделся, через свои покои не пошел, словно понимая, что будут закрыты, прошел через приемную. В кабинете упал перед ней на колени:
— Прости, Катя, дурак я пьяный. Ежели не простишь, удавлюсь!
Сказал и… умчался, как и пришел. Слуги сказали, что поскакал в Гатчину.
Оттуда пришло письмо:
«Пока не простишь, не вернусь».
Речь о том, чтобы удавиться, уже не шла. Но она простила, убедила себя, что не на нее ругался, по-бабьи пожалела глупого, ночами вспоминала его сильные руки, крепкое тело…
Через неделю отправила в Гатчину записку:
«Приезжай».
Но мир установился ненадолго. Орлов продолжал пьянствовать и откровенно оскорблять государыню при всех.
Самая знаменитая прививка
Прасковья Брюс с утра бледна и откровенно взволнованна. Екатерина с трудом скрыла улыбку. У Брюсихи небось новый любовник таков, что и выспаться не дал? Интересно, кого это она подцепила? Прасковья любительница молоденьких да крепких, на Гришку вечно заглядывается. Но Орлов не дурак, понимает, что если уж грешить, так не на глазах у любовницы, не то из фаворитов быстро вылетишь, держит подле себя скорее по привычке да чтоб одной не быть, да и Брюс не такова, чтоб кого-то на нее менять.
Но видно что-то серьезное, почти бросилась к императрице, едва получив доступ в кабинет.
— Матушка, беда!
— С цесаревичем что?
— Нет, — Брюсиха поспешно закрестилась, — опять оспа проклятая по теплу поперла, в Петербурге полно больных.
Мир уже привык к ужасу перед оспой, недаром в теплое время года все старались попрятаться по имениям и до холодов носа в столицу или Москву не показывать.
Екатерина вздохнула:
— В Царское раньше времени перебираться надобно. Скажи, Прасковья Ивановна, чтоб готовились. Есть ли во дворце заболевшие?
— Нет, матушка.
— Следите, чтоб за собой в Царское не притащили, не то вместо спасения карантин получится.
Государыня пыталась шутить, но вообще-то была испугана, никакую другую болезнь так не боялась, как оспу. От чумы можно умереть, можно погибнуть при родах, разных коликах, мучиться животом, но человек либо выздоравливал, либо умирал. А оспа безобразила лица так, что потом никакой пудры не хватало отметины замазать.
Боялась и за себя, и за сына. Павлуша и так с каждым годом все хуже лицом становится, нос словно брюква на лице расселся, глаза стали въедливые, взгляд часто неприятный, особенно страшно, когда большие ноздри раздуваются от гнева, а гневлив цесаревич очень. Павел словно умудрился взять и у родителей, и у предков все худшее. Был добрый мальчик, курносый, со светлыми очаровательными кудряшками, чудо, а не ребенок. Но перерос и стал резким, нервным, некрасивым.
Ознакомительная версия.