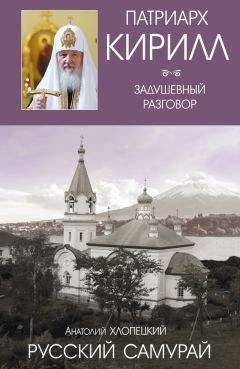– Где будем размещать эту литографию? – спросили миссионеры, заранее зная ответ: не было иного помещения, как в том же доме, где находилась и квартира архимандрита. Теперь и занятия в школе, и труды самого отца Николая сопровождались непрерывным грохотом литографской машины. По словам видевших его в ту пору в Японии соотечественников, он все больше напоминал отшельника-пустынника – с изможденным лицом, в ветхом домашнем подряснике из грубой ткани.
Когда один из присланных в миссию священников заболел и встал вопрос о его замене, начальник миссии в рапорте об этом Святейшему Синоду просил предупредить, что из двухсот рублей назначаемого преемнику жалованья по крайней мере половину тот должен считать не своей собственностью, а предназначать на нужды Миссии там, где он будет поставлен. Видимо, на таких самоотверженных условиях трудились все работники Миссии, включая самого архимандрита.
Согласиться на такие условия мог лишь подлинный подвижник, способный не только разделять веру святого Николая, но и стать настоящим собратом, понимающим и верным единомышленником. Это удалось не сразу – не однажды приходилось с горечью убеждаться, что те, кого он приглашал разделить труды Миссии, оказывались неспособны к миссионерской деятельности, равнодушны к стране своего пребывания, да и просто не отвечали тем требованиям, которые отец Николай предъявлял ко всем священнослужителям, и прежде всего к себе…
Но наконец такой человек нашелся – по стопам святого Николая в Японию отправился иеромонах Анатолий – выпускник Киевской духовной академии, бывший послушник монастыря на Афоне. Архимандриту Николаю он сразу пришелся по душе: «Лучшего помощника я и не желал бы», – пишет он в Святейший синод. Приезд отца Анатолия дал возможность перенести центр православной миссии в столицу – в Токио, куда переехало и консульство. Это было в феврале 1872 года.
Еще недавно столица называлась Эдо – «дверь от реки»: замок сегуна Токугавы, основателя нового города, действительно открывал или закрывал доступ к реке Сумида – главному торговому пути вывоза зерна и других товаров из провинции к морю и к Осаке, а значит, и к тогдашней столице Киото. Токугава чувствовал себя достаточно мощным диктатором, чтобы не подчиняться императору, и Эдо стал, по существу, главным городом страны. С крушением трехсотлетнего владычества клана Токугавы Эдо стал императорской столицей и был переименован в «восточную столицу» – Токио.
Приехав в Токио, архимандрит Николай, в сущности, увидел два разных города: простонародная часть занималась ремеслами, рисовала на шелке прославившие Японию гравюры, веселилась на представлениях уличных актеров. Самурайская еще не избавилась от своей изысканной чопорности – здесь изучали тонкости чайной церемонии, состязались в стрельбе из луков и фехтовании на мечах.
И за всей этой внешней пестротой стояли перемены, не сразу приметные постороннему глазу, но гораздо более глубокие: Япония выходила из изоляции – торговой, экономической и духовной. В Токио уже вовсю развертывали свою деятельность разноязычные католические и протестантские миссии, проповедники старались убедить будущую паству, что только та вера, которую они несут, является истинно христианской…
Трудно было найти жилье в Токио: негде было даже остановиться. На одну ночь владыку Николая приютил миссионер-англичанин. А потом удалось подыскать квартиру из двух маленьких комнат на чердаке.
Архимандриту Николаю предстояло решить нелегкий вопрос о том, где будет размещаться миссия. Ему хотелось приобрести земельный участок на холме Сурагадай, который так удачно возвышался над городом, открывая всю его тогдашнюю панораму. И пока шли долгие переговоры и согласования, он бродил по приглянувшемуся району, присматривался к работе ремесленников, которые трудились на виду у прохожих, за открытыми дверями своих мастерских-лавок.
Совсем недавно император Мэйдзи снял табу с употребления мяса, прежде считавшегося «нечистой» едой, но уже возникли в окрестностях Сурагадая мясные лавки, где предлагали тончайше нарезанные ломтики говядины и свинины, кусочки куриного мяса и экзотические для европейца приправы к ним из сои, листьев съедобной хризантемы, кунжутного масла.
А из соседней двери пахло деревенским сеновалом – там сшивали циновки татами. Пожилой мастер, сшивая толстой иглой пучки соломы, перебрасывался шутками с прохожими и прихлебывал одновременно зеленый чай, подливая кипяток из постоянно кипящего на огне пузатого медного чайника.
Издали видно было лавку «тэнугуи» – полотенец, украшенных орнаментами, рисунками кукол, иероглифами. В ее тесном помещении рождались почти те же гравюры, которые так ценились в верхнем городе – в аристократических кварталах. Только здесь материал, на котором они печатались, был дешевле – попроще, погрубее.
Преосвященный Николай прислушивался к многоголосому говору, любовался мастерством ремесленников и все больше утверждался в мысли, что именно здесь, среди жилищ простого народа, в самой гуще его, и есть то самое место, на котором должны быть воздвигнуты строения Российской духовной миссии. Оставалось лишь убедить в этом имперских чиновников.
И он писал в Россию: «На иностранных храмах блестят кресты, звонят колокола… – И нам бы нужно храм, – говорят наши бедные птенцы, – негде помолиться, излить душу перед Богом… И не ждет так отрескавшаяся от засухи земля дождя, как мы ждем вашей помощи, оживите, ободрите нас поскорее, если не прямо помощью, то надеждой на нее».
* * *
Только в начале осени ему удалось приобрести в бессрочную аренду земельный участок на вершине холма Сурагадай. Теперь предстояло построить здесь дом православной миссии. В этом строении должны были разместиться домовая церковь, мужское и женское духовные училища, квартиры начальника миссии и его сотрудников, подсобные помещения. Непросто было решить такую задачу, да еще при недостатке средств. Отец Николай часами совещался со строителями, сам с линейкой и циркулем склонялся над чертежами, ездил убеждать несговорчивых подрядчиков.
Меньше всего заботился он о собственных удобствах, хотя в первое время условия его жизни в Токио были ничуть не лучше, чем в Хакодате: «Представьте, например, мою обстановку, хоть это одна из последних мелочей. Жара теперь. Боже, какая жара! Перестать работать, конечно, нельзя, не об этом и речь; и утром до полудня, и вечером с пяти часов человек 20–30 имеют полное право приходить выслушивать уроки Закона Божия. Но куда приходить? Мое жилище – одна комната на чердаке, по точнейшему измерению 11 квадратных футов. Вычтите из этого пространство, занимаемое столами, стульями и подобием сделанного дивана, заменяющего мне кровать; высота – стать в ней во весь рост человеку такого роста, как я, едва можно. Разочтите, сколько воздуха в таком жилье… К счастью, еще два окошка, одно наискось другого. Если благотворительная природа посылает ветерок, то ничего. А если нет веяния воздуха – духота нестерпимая. Внимание с трудом связывает мысли; самое горло отказывается служить полтора или два часа подряд. Многие Христом Богом просят крещения, а я не могу крестить их, потому что негде».
Даже и здесь он старался жаловаться не на личные неудобства, а на то, что обстановка мешает должному отправлению его пастырских и миссионерских обязанностей.
К тому же строительство вовсе не отменяло повседневной работы миссионеров среди населения, и далеко не всегда она была простой и безопасной. Отец Николай получил известие, что Савабэ, проповедовавший в Сэндае, и Сакаи, занимавшийся миссионерской деятельностью в Хакодате, брошены в тюрьму. Он надел свое парадное облачение и снова отправился с просьбой о помощи к влиятельным японским сановникам – на этот раз к Ивакура Томоми и Кидо Токаеси. Они занимали высокие посты в правительстве. Снова длинные дипломатические переговоры, поклоны, обязательная чайная церемония. Но сработала сила убеждения, которой всегда обладал владыка Николай, да и времена наступали другие. Арестованные были освобождены.
Препоны на пути к развертыванию миссионерской деятельности угнетали Преосвященного, он делится со своим дневником мучительными сомнениями: «Не загублена ли даром жизнь и вдобавок множество русских денег? Станет ли православие в Японии? Кому работать для этого?»
И тут же останавливает себя:
«Вчера написанное – одно малодушие. Нашей нетерпеливости хотелось бы, чтобы перед нашей секундой бытия сейчас же развернулся весь план судеб Божиих. Вероятно, во всем есть смысл, что намеренно сам человек не ставит в противоречие разуму Божию… Если в простой былинке, которую мы небрежно растаптываем, все-все клеточки имеют свое назначение и приносят свою пользу, то человек неужели бессмысленнее и захудалой клеточки?.. Итак, нужно стоять на посту и спокойно делать, что под рукой… спокойно грести, не выпуская весла, пока смерть не выбьет его из рук».