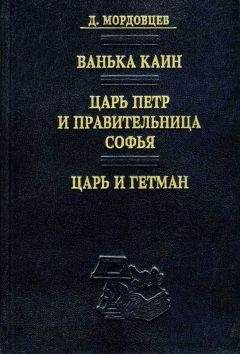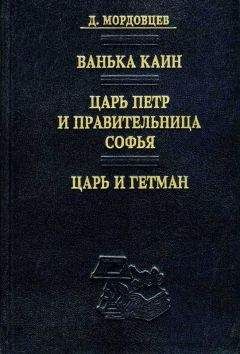В этот приезд в Воронеж царь особенно чем-то озабочен был даже при виде своих любимых кораблей. Лицо его чаще обыкновенного нервно подергивалось, и Павлуша Ягужинский, который всегда видел его насквозь, на этот раз никак не мог понять причины тайного беспокойства своего повелителя. Один раз в жизни он видел у царя почти такое же выражение лица с нервными подергиваниями, но тогда глаза его метали искры гнева, а теперь они казались более задумчивыми… То было давно, когда Павлуша был еще очень маленьким и служил у Головкина: то было во время стрелецкой расправы… Но что теперь происходило в душе у царя, Павлуша не мог понять. Одно он заметил: когда в этот раз проездом из Питербурха в Воронеж они останавливались в Москве, царь несколько раз беседовал о чем-то наедине с царевичем Алексеем Петровичем, казался раздраженным и рассеянным, а потом долго разговаривал о чем-то с Мартою и в разговоре несколько раз настойчиво произносил слово «пароль» и упомянул имя царицы Авдотьи…
На другой день царь послал Павлушу пригласить к себе преосвященного по делу. Около архиерейского дома, по обыкновению, стояли толпы, толкаясь по делу и без дела. Увидев молоденького царского денщика, толпа заколыхалась, догадавшись о цели посольства Ягужинского.
— За архиереем идет от царя…
— Ох, светики! Так выдет сам — от батюшка?..
— Знамо, чу, выдет…
— К царю — ах, матыньки!
— Сюда, робята! Сам выдет…
— Ой ли! Что ты!
— Пра!.. К царю, слышишь…
В архиерейском доме Ягужинского встретил толстый, с добродушным лицом келейник, который тотчас же доложил о приходе царского денщика и затем, воротившись в приемную, просил его следовать за собою, извиняясь, что владыка несколько устал за службою и теперь отдыхает.
Павлушу ввели не то в кабинет, не то в молельную, уставленную иконами в дорогих окладах. У икон теплились лампадки, и свет их, смешиваясь с дневным светом, проникавшим в окна, производил такое впечатление, как будто бы в комнате должен был находиться покойник…
Павлуша почувствовал, как холодный трепет прошел по телу — в комнате действительно был покойник!.. Господи! Что это такое!
В переднем углу, головою к образам, стоял на полу простой дубовый гроб — в гробу-то и лежал покойник… но он был жив: бледное, усталое лицо смотрело из гроба кроткими, приветливыми глазами… Это был святитель Митрофан!
Павлуша окоченел на месте…
— Мир ти, юноше! — тихо проговорил голос из гроба.
Святитель силился приподняться, но не мог от слабости.
Келейник нежно наклонился к нему и, как ребенка, приподнял из гроба… В гробу в изголовье лежали дубовые стружки… Какова постель!
Святитель приблизился к Павлуше и благословил его. Юноша с трепетом и благоговением припал к худой, сухой и холодной руке архиерея, который ласково глядел в смущенное лицо посланца.
— Ты от царя, сын мой?
— От царя, владыко, — был робкий, едва слышный ответ. — Его царское величество указал просить…
— Явиться к царю?
— Да… пожаловать, святой отец…
— Буду, неукоснительно буду… А ты денщик царев?
— Денщик, святой отец…
— Молоденький какой… А трепетна служба на очах у царя, ох трепетна… Близко царя — близко смерти…
Павлуша молчал. Что-то невыразимо доброе звучало в голосе святителя… это забытый голос матери… Павлуше плакать захотелось…
— А как имя твое, сын мой?
— Павел Ягужинский, владыко.
— Павел Ягужинской… Не российского, видно, роду?
— Я из Польской Украйны, святой отец…
— Так-так… От запада прииде свет — все от запада… Там, на западе, солнце долее стояло, чем на востоце — по повелению Иисуса Навина… Такова воля Господа — ныне от запада свет, — говорил, словно про себя, святитель, тихо качая головой. — А нам пора в могилу… вот моя ладья — вечная ладья тела моего бренного…
«Да не смущается сердце ваше — веруйте в Бога и в мя веруйте — в дому отца моего обители многи суть», — слышится протяжное, за душу хватающее чтение: это читает кто-то в соседней комнате.
«Господи! Что за страшная жизнь!» — щемит в душе у Павлуши, и он готов разрыдаться, но сдерживается…
— Доложи, сын мой, царю, что немедлительно приду к нему, — прерывает тягостное молчание архиерей.
Павлуша кланяется, и глаза снова падают на ужасный гроб… Это страшнее кладбища!
Через несколько минут архиерей в сопровождении своего келейника вышел из дома. Толпа, стоявшая у ворот и на площади, казалась еще многочисленнее. Едва показался старый епископ, как все обнажили головы: многие крестились. Толпа разом нахлынула к своему любимцу; он кротко улыбнулся, поднял свои добрые глаза к небу, как бы прося благодати у невидимой силы, и стал благославлять направо и налево: «Благодать Святаго Духа… благодать Святаго Духа… благодать Святаго Духа»…
Архиерейский дом отделялся от нового царского дворца только площадью, и архиерей направился к царю пешком, как он обыкновенно посещал норы и язвины бедных и рабочих…
Царь смотрел в окно на шествие святителя… Что это было за шествие! Рабочие бросали на землю свои зипуны, бабы платки и холсты, чтобы только святые ноги архиерея прошли по их одежде… Иные целовали следы этих ног, брали из-под них землю и навязывали на кресты, бабы подносили своих детей… Только младенческий народ так непосредственно умеет ценить святость и истинную доброту человеческую…
— Владычица! Упадет кормилец…
— Из гроба, чу, встал светик наш…
— Ох, матушки! Из гроба…
— Из дубовово, сам, братцы, видел… и стружки в ем…
— Ох Господи! Касатик!
— Все там будем…
Архиерей, с трудом пройдя площадь и вступив на царский двор, обогнул дворец справа, чтобы подойти к главному входу, с фаса, обращенного к реке.
Подойдя к подъезду с опущенными в землю глазами и потом подняв их, архиерей остановился в неподвижном изумлении… На добром лице его изобразились не то гнев, не то горечь и жалость… Детски кроткие глаза заискрились — и он попятился назад…
— Свят-свят… Что есть сие?
На крыльцо выбежал Ягужинский, чтобы встретить владыку. Но тот стоял неподвижно, только голова его дрожала и посох нервно ударял в промерзлую землю…
— Идолы еллинские… Чертог царя — и кумиры идоложертвенные… Свят-свят Господь Саваоф!..
У входа во дворец стояли статуи. Особенно поражал своею величественностью Нептун с трезубцем, более других любимый Петром классический бог. Тут же стояли Аполлон, Марс и Минерва…
Статуи эти соблазнили святителя, который считал «еллинских идолов» неприличным украшением для царского дворца… Архиерей был прав со своей точки зрения и сообразно византийским преданиям, господствовавшим тогда в нашей церкви.
— Куда ты меня привел? — и кротко, и в то же время строго спросил он келейника.
Тот молчал. На добродушном лице его выражалось смущение.
— Что это такое, я тебя спрашиваю? — повторил святитель громче.
— Дворец, владыко…
— Не дворец царский, а капище идольское…
— Ваше преосвященство! — смущенно заговорил Ягужинский, приближаясь к архиерею, — его величество ждет…
Святитель вскинул на него своими чистыми, блестящими внутренним огнем глазами.
— Доложи его величеству, что служитель Бога живого, предстоящий престолу Его предвечному, не внидет в капище языческое…
— Владыко… отец святой…
— Пойди и передай мои слова государю, юноша! — по-прежнему кротко, но твердо сказал архиерей.
Ягужинский убежал в дом. Архиерей продолжал стоять на дворе, опустив голову… Народ, прорвавшись в ворота, смотрел в недоумении на стоящего у крыльца святителя…
Снова вышел Ягужинский. Смущение и страх выражались на его живом прекрасном лице.
— Его величество повелел указать… — Юноша совсем замялся и покраснел.
— Что повелел указать?
— Явиться к нему… и… и (голос у Павлуши сорвался)… напомнить, что ожидает… ослушников…
— Скажи, юноша, его величеству, что я скорее явлюсь к престолу Всевышнего, будучи предан лютой казни, чем переступлю порог капища сего! — громко, отчеканивая каждое слово, отвечал Митрофаний. — Я охотно приму мученическую смерть… Доложи царю, что и гроб у меня готов уже…
И быстро поворотившись, он вышел со двора, благословляя народ… Словно море, заколыхалась площадь человеческими головами…
Царь стоял у окна бледный, со зловещими, страшными подергиваниями искаженного лица…
IV
Народ, сопровождавший Митрофания, был необыкновенно поражен тем, что он видел. Некоторые видели только, что архиерей был чем-то остановлен у входа в царский дворец и воротился назад с особенной строгостью на добром, всепрощающем лице, которое так было знакомо народу именно в смысле всепрощения. Другим удалось слышать протестующий голос владыки. Иным бросилось в глаза изумленное и испуганное лицо юного царского денщика. Некоторые, наконец, слышали самые слова Митрофания, хотя уловили их без связи: «дворец»… «капище идольское» … «лютой казни» … «гроб готов»… Что это такое? Кто на кого разгневался? Кто кому угрожал? Кого ожидает гроб?.. Конечно, того, кто менее силен в этом столкновении. А что столкновение между царем и архиереем произошло — это было ясно как день. Но из-за чего? Конечно, из-за этих медных «бесов», что поставлены при входе во дворец. Да и кто мог не смутиться при виде этих огромных медных дьяволов, что стоят там! Еще когда только привезли их откуда-то, да привезли не на простых возах, а на каких-то огромных катках с невиданно толстыми колесами без ободьев и без спиц, так и тогда народ диву дался и недоумевал, что бы это было такое. Ведь шутка ли! Одних лошадей было впряжено в эти дьявольские колесницы по три тройки. Сначала думали было, что это царь для потехи себе велел привезти из Москвы царь-пушку да царь-колокол — и все с нетерпением ждали увидеть эти чудеса. Но когда чудеса эти корабельные плотники целой артелью едва осилили стащить с катков и когда стали освобождать их от рогож, то из рогож показались ужасы!.. Там нога медная торчит, там рука, да такой необычайной величины, что и не леть есть человеку глаголати — плотники так и шарахнулись от них с ужасом, крестясь и чураясь: «Чур… чур… чур меня!.. Чур, нечистая сила!» А немецкие мастера сняли рогожи с верхних частей этих чудищ, и народ увидал там огромные медные головы с медными волосами и медными глазами без зрачков, так всем ясно стало, что это дьяволы, «идолы медяны». С тех пор так эти чудовища и пошли за медных бесов, и народ боялся их.