Обстановка изменилась.
Через час прибежали запыхавшиеся дозорные известить, что приближается группа большевиков. Наши стрелки моментально были готовы.
Между рядами ходил командир. Его ровный, решительный, острый, хотя и приглушенный, голос вникал в каждый угол души партизан. Командир все знает, все предусматривает, словно уже сразу внушает победу. Не может быть неудачи, не может быть безнадежности, когда твой командир говорит и дает приказы!
Миша лежал возле дядьки Андрея. Они оба с нахмуренными бровями прислушались ко все более близкому треску. Миша уже раз даже видел, как между редкими деревьями мелькнули серые чахлые фигурки. Миша до сих пор, после засады на капитана, не был в большом, настоящем бою. Миша знал, что партизана обязан драться, это его главное назначение, и большой, страшный бой когда-то настанет. Он ждал этого момента всей душой, ждал и боялся. Боялся за себя: каким он будет тогда под градом пуль, справится ли со всем этим, и был не уверен. Он же только малый Михайлик.
Наконец теперь это должно было произойти! И хотя Миша очень хмурится, его сердце тревожно трепещет, а по лицу время от времени пробегает багровая волна.
Миша помнит только первый залп. Поблизости было тихо. Весь отряд залег, затаив дыхание, а большевики с громким треском подходили все ближе и ближе. Их подпускали на более близкое расстояние. Миша уже совсем хорошо видел двух, идущих напротив в серых "рубашках" с выставленными автоматами. Миша весь дрожал; ему даже казалось, что что-то случилось, что кто-то забыл и большевики придут к ним.
Вдруг грянул повстанческий залп. Миша видел, что большевики разбежались и исчезли, забегая за деревья и залегая. У Михайлика трещало в ушах от выстрелов и криков "ура"-"ура". Миша кричал «ура» так, чтобы только этот окрик было слышно. Ему очень хотелось слышать это слово — оно само, как победа.
Кто-то кричит: — Гранаты!
Миша бросает свою гранату и кричит другим: — Гранатами, гранатами их!
Косит высокий Иванко-пулеметчик. Идут большевики. Ваня ждет, а потом как даст очередь — вповалку ложатся друг возле друга, как ложатся поочередно волны ржи под ветром. Но и у Иванка течет кровь из груди... Что случилось, Иванко? Он наклонился, лег на свой пулемет, большевики кричат, большевики подбегают ближе и ближе... Миша вскакивает, он нетерпеливым движением отодвигает Иванка и кладет руку на замок пулемета. Он сам пулеметчик... Бить их, бить!
Опустело поле боя.
После бешеной партизанской гульни везде валяются тела полегших, оставленное оружие — земля ранена, потоптанная... не знаешь, где болото, а где кровь. Побоище наше!..
VIII
Под вечер отряд-победитель вступает в деревню. Стройные тройки с песней вступают на сельскую улицу. Что им бой, что им ненастье? Улица моментально оживает.
Скрипят двери, трещат заборы, за ворота выходят люди.
— Войско, наше войско идет!
— Идите, идите, наши ребята!
Где-то на плите нетерпеливо кипит борщ и, наконец, не дождавшись хозяйки, с грозным шипением разливается.
Где-то визжит упавший в колыбели ребенок и, не дождавшись матери, пихает в рот собственную ножку.
Большеглазая Красуня, которую бережно поил хозяин, смотрит удивленно, как покатилось по мураве оставленное ведро.
Лошади остановились в керате{2}, и гуси убежали на пруд, а ворота трещат, а песня льется — "Повстанцы, повстанцы идут!"
Степенные хозяева кивают головами и вытягиваются, вспоминая давние времена, "старую войну", взвешивают в своих головах теперешние героические времена. Хозяйки прикладывают к глазам фартуки и всхлипывают, словно кто-то жестоко обидел их, а детвора не выдерживает — танцует от восторга.
— Повстанцы, наши ребята идут!
Льется их песня и зовет в бой — зовет в сражение — и тебя там надо, седовласый, и тебя, девушка, и тебя, хозяин, и тебя, хозяйка, и вас дети — всех, всех, мы все — Украина. В бой — в бой, на восстание!
— Боже, это же наши идут!
— Ох, вырастили мы их, вырастили — видишь, какие!
— Да соколы они, соколы — смотри, друг в друга!
— О, а как шаг держат! Смотрите, никакая армия так легко не идет.
— А что оружие, то уж оружие; у каждого то "эмпи", то "финка". Глядите, и пистолеты на боку!
— Побили вовсю, говорят, мазяр{3}.
— Вот, уже завтра можете в лес по дрова ехать, а со своей несправедливостью таки к командиру идите; уж он рассудит.
— Ой, дети бедные, без дома, без еды, без отдыха! И кто же о них, бедных, там заботится, кто их кровушку отирает?.. Убиваются наши дети, убиваются...
— Ты, если бы взяли, пошел бы?
— Эй, глупый ты, зачем им такие, как мы? "Расти!" — говорят.
— Антихристы эти, босяки — таких убивать... Ой, понесет же Сталин грех на тот свет, в крови человеческой он уйдет!
Уже понеслось между людьми, отряд в деревне отдохнет и не против поужинать. Между стрелками проходят хозяева и хозяйки и группками разводят их по домам.
Одна толстая тетка подошла к группе дядки Андрея. Она увидела Мишу и только всплеснула руками.
— Ой, да еще такое малое с вами. Да что же, бедненькое, оно здесь делает? Ой, матушка моя! — и она жалобно всхлипнула и поспешно подняла свой передник к глазам. Миша покраснел и презрительно скривился:
— Не плачьте, тетя, не плачьте! Не буду я с бабами на печи фасоль теребить, если война идет.
Хозяйка онемела: "Ишь, какое разумное удалось!" — а дядька Андрей гордо посмотрел на своего любимца, и только длинные усы у него от удовлетворения подрагивали.
Миша и дядька Андрей пошли в дом хозяйки.
Этот вечер не был приятным в жизни Миши. В доме собралось много теток, и все жалели его, пихали, как ребенку, бублики и лакомства, а дальше бросились над ним плакать. Миша чуть под землю не провалился от стыда и уже сто раз сбежал бы от них, если бы не воинская гордость. Но, хоть Миша и остался, его воинская гордость была очень уязвлена. К тому же еще и голос отказывал ему повиноваться. На превеликую свою злость, он совсем охрип и, вместо говорить, только пиял{4}, как молодой петушок.
Наконец тетки убрались, и хозяйка на эти несколько часов, что еще остались, положила Мишу спать в чистую, мягкую кровать. Но Михайлику было душно, он зарывался в подушки, потолок словно душил его, а к тому же каждую минуту могла снова налететь какая-нибудь тетка — сегодня же в селе партизаны, и никто не спит. Михайлику вспомнилась тишина и высокий звездный свод — там, в лесу. Миша почувствовал, что он уже настоящий партизан.
IX
Уже было за полночь, когда мальчишку позвали к командиру.
Миша вытянулся перед ним всем своим худеньким тельцем, но доложить о себе не мог: из его груди извлекалось только какое-то неистовое тонкое кукареканье. Миша покраснел, как жар, а командир посмотрел и прикусил губы, чтобы не засмеяться. С трудом его лицо приняло снова серьезный вид.
— Мишенька, я слышал, что ты сегодня хорошо выспался. Ты сражался, как настоящий партизан. Но ты, Мишенька, еще не взрослый. Я уже давно вижу, с какими непосильными трудами ты сталкиваешься у нас. Не для твоих тринадцати лет наши марши, опасности, бои. Летом было легче, и всегда находилось для тебя какое-то полезное задание. Но я видел, сколько усилий стоит тебе эта осень... Вот хотя бы эти сапожища, что ты их хотел "расстреливать".
Он улыбался.
— Да мучиться, Миша, не по возрасту нельзя! Ты пригодишься Украине. Мы вступаем в суровую зиму — кто знает, что нас ждет? Я хочу, Миша, на зиму оставить тебя в деревне, вот хотя бы и в этой. Домой теперь и так не добьешься. Весной пригреет солнце, запоют жаворонки, и ты, если захочешь, снова придешь к нам.
У Миши сжалось сердце. Он вспомнил сегодняшний бой, полное приключений лето, наблюдения, дядьку Андрея и все те большие партизанские задачи, о которых не раз говорил командир. Миша вспомнил тоже плаксивую тетку и душную комнату, и почувствовал, как на глаза ему навернулись слезы. Он умоляюще посмотрел на командира:
— Друг командир! Я не останусь... Я не могу! Я буду сражаться вместе с вами, так как вы говорили, за Украину...
— Парень, это же невозможно, подумай!
— Я уже думал! Я много раз уже думал — вы же все идете. Я заболею, мне вредит дом — вот я уже в нем охрип! — использовал он еще один возможный аргумент.
Командир был глубоко тронут тем, как держался Михайлик, а на его последний аргумент не выдержал и громко рассмеялся:
— Ну, если тебе вредит дом, то иди с нами. Но запомни, если будешь потом плакать, то моей же рукой в моем шатре схлопочешь по коже, чтобы знал!
Осчастливленный Миша улыбнулся от уха до уха:
— Нет, нет, друг командир, не буду плакать! Не схлопочу, нет!
Как на крыльях, полетел к дядьке Андрею собираться в поход.
Когда через два-три часа Миша и повстанцы выходили из домов, они видели, как замерзшую внезапно землю припорашивал первый снег.
Когда светало, на горизонте отчетливо запестрели Карпаты, цель их марша. Горы стояли далекие, чужие, таинственные, с совсем уже белыми головами, охваченными дождем. От вида этих унылых, неизвестных гигантов у Михайлика по спине пробежала легкая дрожь. Справится ли он с нею? А к тому же этот командир... еще только такого стыда не хватало бы.
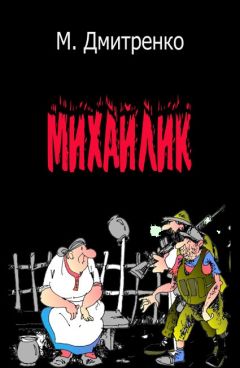
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



