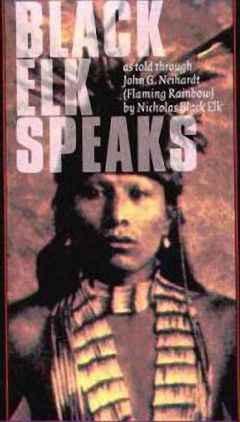В лесу было хоть и холодно, но ощутимо пахло весной — растаявшей сосновой смолой, распустившимися почками и набухшим влагой снегом. Где-то над головой старика слышалась дробь дятла, который старался долбить изо всех сил, словно хотел разбудить все вокруг от зимней спячки. Его не слышала разве только река. Вон ее уже видно Видману сквозь стволы сосен. Но река еще крепко спит, укрытая толстым снежным одеялом.
Видман представил свое лоскутное одеяло на теплой печи, и ноги зашагали веселей. Вот уже и околица, и самый первый дом с краю — его собственный.
* * *
Окся молилась, стоя на коленях под образами. На киоте слабо тлел огонек лампадки. На плечи женщины накинут легкий заношенный зипун. По полу тянуло холодом, но она не чувствовала его. В ее душе, распахнутой Богу, пылал жаркий огонь любви и веры. Она молила о возвращении мужа, об исполнении давних желаний, о милости к ее исстрадавшемуся сердцу. Только любви ей недоставало в ее тяжелой жизни: отняли мужа, услали на каторгу.
Окся истово перекрестилась отяжелевшей рукой и оглянулась. На печи заворочался и что-то забормотал Никитка. Набегался за день и во сне, наверное, все бегает да дерется. Каково ему без отца? Конечно, дед Видман любит внука и учит его всему, что сам знает. Да ведь то дед! Да и стар он уже, не вечен. Окся, вспомнив об отце, прислушалась — не слышно ли его шагов, совсем пропал, старый… И, обратив лицо к иконам, вознесла новую молитву о здравии родителя.
Надо признаться, женщина в глубине души больше уповала не на самого Господа, а на его Мать. Икона Богородицы с Младенцем приковывала ее внимание больше. Деве Марии она доверяла все свои мысли без утайки, надеясь на Ее милость и сострадание. Наконец, почувствовав себя совсем обессиленной и продрогшей, Окся, отбив последние поклоны, встала с колен и прилегла на скамью у теплого бока печи. Уснула сразу, как только голова коснулась старого тулупа. И тут же увидела, как в избу влетает ворон, широко распахнув свои черные, как ночь, крылья. От них по всей избе поднялся ветер, погасли лампада на киоте и свеча на столе. Окся в испуге села на лавку, прикрываясь зипуном. А ворон увидел ее, налетел, царапая когтями зипун, и человеческим голосом прокричал:
— Позор-р! Пр-родаешь своего бога! Пр-ропащая! Окся вскинула руки — то ли ворона прогнать, то ли к Богородице обратиться за помощью. Ворон шарахнулся от нее в сторону и с тревожным криком вылетел вон. И тут Окся услышала голос. «Послушай, раба божья, — говорила Богородица, — муж за твои грехи страдает, кандалы носит. В дубовой роще Господа не ищи…» Окся вздрогнула и проснулась. В избе полутемно, тихо и пусто. Лампада и свеча погасли, только тоненький стебелек дыма тянулся от свечного фитиля к потолку. Из узкого окна сочился последний свет уходящего дня. Окся перекрестилась троекратно и тяжело вздохнула, вспомнив Листрата. Она познакомилась с ним весной.
Вместе с сеськинскими женщинами резала торф для князя Грузинского в большом болотистом овраге Лысковского леса. Здесь же, в лесу, мужики дрова заготавливали. Среди них был и Листрат Дауров. Они сразу приглянулись друг другу и расстаться больше не смогли. Окся вернулась домой с женихом. У Листрата не было ни отца, ни матери, ни добра нажитого. Поэтому он остался жить в доме тестя. С весны до глубокой осени работал с Кузьмой Алексеевым на Волге: для купца Строганова возили соль из Астрахани. Вскоре Никитка родился, единственная их распустившаяся почка… А потом Листрата обвинили в поджоге лодок у пристани и посадили в тюрьму.
Тоска острым ножом полоснула по сердцу женщины. Словно черный ворон когтем достал. Дышать стало тяжко. Окся встала и подошла к окну — там воздух свежее. В вечерних сумерках ей хорошо была видна тоненькая рябина под окном, одинокая и озябшая, как она сама. Эту рябину они с Листратом привезли той весной из лесу. Плохо растет, бедняжка, болеет, сохнет. Видно, в одиночестве даже дереву несладко.
В сенях послышались шаги и покашливание отца. Окся поспешила открыть дверь, чтобы в темноте старый не наткнулся на что-нибудь. Кряхтя и охая, Видман перешагнул через порог и позволил дочери снять с него полушубок и валенки. Пока дочь хлопотала возле него, он успел оглядеться и, потянув носом воздух, сурово спросил:
— Опять свечи жгла, Богу своему кланялась? Сколько раз тебе говорить, бестолковая!..
— А как, тятенька, пчелки? Живы ли они? — быстро увела разговор в сторону Окся, знавшая, что спорить с отцом себе дороже.
Уловка подействовала. Взгляд старика подобрел.
— Пчелки наши живы. Вот Чипаз5 землю согреет, они и полетят по белу свету, мед нам в ульи принесут.
— Вот и хорошо, тятенька! Устал ты, поди? Давай ешь, я за заслонкой кашу ячневую оставила, теплая еще. Да спать ложись.
После ужина она помогла отцу забраться на печь, укрыла его дерюжкой (под лоскутным одеялом сладко спал Никитка) и шепотом сообщила деревенские новости. Старик узнал, что домой вернулся Кузьма Алексеев, что, по его словам, он наведывался в судебную палату, чтобы расспросить о Листрате. Ему было сказано, что Дауров отправлен этапом в Сибирь.
— Ничего, ничего, доченька, — погладил Видман дочь по голове, — зятек молодой, крепкий, выдержит, домой вернется! Не плачь!
* * *
Кузьма Алексеев вышел на крыльцо и некоторое время постоял, держась рукой за дверной косяк, словно боялся упасть. Оглядел открывающуюся его взору картину — замусоренный двор, покосившиеся поленницы дров, остатки снега на гумне, кучи навоза, накопившиеся за зиму, — вздохнул и стал осторожно, держась за перила, спускаться по ступеням. Потом, пошатываясь, словно пьяный, пошел в хлев, навестить живность.
Мотало его из стороны в сторону и заставляло подгибать ослабевшие колени ни хмельное, принятое по случаю возвращения, а злая лихорадка, прицепившаяся к нему в эту зиму. Но сейчас, вдыхая утренний с весенним морозцем воздух, он почувствовал прилив сил, вот и решил осмотреть хозяйство, хоть жена и упрашивала полежать под теплым полушубком. Тем более, что она пожаловалась на лесных непрошеных «гостей»: кабанов и зайцев, разоряющих копёшки сена на задах усадьбы.
Корова лежала, медленно и лениво пережевывая жвачку. На появление хозяина отреагировала коротким вопросительным «му-у» — дескать, «а, заявился наконец-то!» В другой клети завозились овцы с ягнятами. Проснулся и пес Шайтан. Вылез из конуры и ходил неотрывно за хозяином, то и дело норовя ткнуть его холодным влажным носом в руку.
— Ладно уж, давай свой загривок, почешу! Хороший пес, умный пес! — Кузьма потрепал свалявшуюся собачью шерсть. Шайтан завилял хвостом, радостно заскулил. — Ну, пойдем дальше посмотрим.
Перед хлебным амбаром Кузьма остановился, посмотрел на сельскую улицу. В этот ранний час на ней безлюдно. Тихо. За соломенными крышами домов темнеет выгнутый коромыслом лес. На восточном конце его рассветное небо своими ало-розовыми губами ласкало макушки деревьев. Скоро покажется солнце и согреет воздух, растопит остатки снега.
Кузьма полной грудью вдохнул утреннюю свежесть и почувствовал, как в него влилась сила. Исчезли слабость и дрожь, зрение стало ясным, мысли четкими. Это ощущение ему было знакомо: родные места, родной воздух всегда молодили его, оживляли.
Он скучал вдали от дома, тосковал по этим окрестностям. Вон там, на краю села, когда-то был отцовский приземистый домишко. В нем Кузьма родился, сделал первые шаги, научился самостоятельно есть за огромным столом ложкой… Да мало ли чего он там сделал в первый раз! Но домишко сожгли злые завистники. Отец поехал на ярмарку в Нижний — теленка продавать — и как в воду канул. Воры ли на деньги его позарились, в пути ли он замерз, звери ли задрали? Никто и никогда уже об этом не узнает… Были и другие потери: из того дома забрали на царскую службу старшего брата Андрея. Уже все положенные сроки прошли, а его все нет, о нем ни слуху, ни духу. Из родительского дома увезли и старшую сестру Василису. Взял ее замуж арзамасский житель. Матушку свою безутешную Кузьма проводил в последний путь уже отсюда, из своего дома, построенного собственными руками. Он тогда с младшим братом Сашей гнул хребет на купца Строганова — нанимались к нему грузить соль на баржи. Только Саша и остался из всей семьи, живет здесь, на Верхнем конце. Удалось срубить и ему домишко.
Кузьма из-за слабости все же не решился идти на зады, вернулся к своему дому. Зашел с заветренной стороны, присел на завалинку, озабоченно оглядев ее крепость: не осыпалась ли за зиму, может, следует подправить? Вообще-то дом Алексеевых еще крепок, не стар, как и сам хозяин. На улицу глядят два окна да на двор два. Передняя часть избы, самая просторная, сложена из самодельного кирпича. Задняя — из бревен. Кирпичи они с Матреной сами готовили. Глины в ближнем овраге за гумном — пруд пруди, не ленись таскать. Печку для обжига во дворе соорудили. Да так ловко у них получилось — все односельчане удивлялись их умению. Только Кузьма не удивлялся: с такой женой, сноровистой да ловкой, все нипочем. И сам он многое умел, навидавшись всего в чужих приволжских краях. На заработки он уходил ранней весной, возвращался поздней осенью, когда лед сковывал реки, и соляные баржи вставали на прикол.