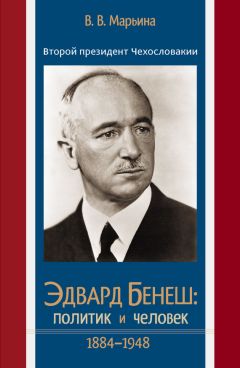— Что ж Бетуша, — говаривал отец, — о ней беспокоиться нечего. Она и не заметит, как выйдет замуж.
Суждение, по существу, справедливое, но далеко не точное, ибо нельзя было представить, чтобы в один прекрасный день Бетуша вышла замуж и не заметила этого, так как все, что бы она ни делала, было подготовкой к замужеству, к будущей семейной жизни. С семи лет под руководством матери, лишь выберется свободная минутка, — девочка вышивала бальную пелерину на голубом тюле, чтобы когда-нибудь на танцах затмить подруг ослепительным нарядом. Она училась всевозможным премудростям, которые придают девушке цену в глазах возможного претендента: вышивала по тонкой кисее, шила, портняжила и стряпала, все это, как говорит поэт, с песенкой на устах; словом, Бетуша была совершенством.
Зато Гана — сущий крест! Она, как все девушки из чиновничьих и офицерских семей, училась в монастырской трехклассной школе, и школьные сестры не уставали возмущаться ее поведением, тщетно ставя ей в пример младшую сестренку, тщетно посылая ее родителям написанные каллиграфическим почерком записочки неприятного содержания, в которых витиеватым слогом излагалось, что «Гана Вахова, дочь Ваших благородий, ведет себя непристойно, словно не девочка она, а распущенный мальчишка, — озорничает, шалит, на уроках должного внимания не проявляет, свои школьные вещи в беспорядке содержа, по деревьям лазая и с детьми другого пола совместно купаясь…». Одним словом, как коротко и метко говаривал ее отец, — ветер у нее в голове. И к тому же была она ужасающе безобразна: долговязая и худущая, тело словно создано для быстрых движений и прыжков, локти острые, всюду кости торчат, ни мягкой линии, ни приятной округлости, на которой глаз мог бы отдохнуть, как отдыхает он на нежной весенней лужайке. А что хуже всего, отличалась Гана строптивостью, мнение свое имела, за словом в карман не лезла, так что жалобы на дочь поступали не только из монастырской школы, но и от отдельных возмущенных граждан. Так, однажды в ответ на совершенно справедливое замечание уважаемой пани аптекарши, что на главной площади полагается ходить пристойно, а не прыгать на одной ножке, Гана неслыханно грубо отрезала: «За собой лучше следите!»; в другой раз, когда бургомистерша, пани Колли-нова, первая дама города, ласково спросила Гану, когда же она наконец образумится, та дерзко бросила: «После дождика в четверг!» Развязная, легкомысленная, непривлекательная, своевольная, дурнушка Гана была несносной девчонкой.
Доктор прав Ваха решил — а как известно, решения его были бесповоротны, — что дочери начнут ходить на танцы одновременно, поэтому старшая, Гана, поступила в танцкласс на год позднее, чем полагалось, когда ей уже исполнилось шестнадцать. Боже мой, как изменилась Гана за последние два-три года! В какую красавицу превратился гадкий утенок, над которым отец с матерью сокрушенно качали головой!
На полторы пяди выше Бетуши, высокая и статная, лицо чистое, обрамленное тяжелыми темно-золотыми косами, с почти классическим профилем, благородным выпуклым лбом, нежной, чуть изогнутой линией переходившим к переносице, она напоминала амазонку или девственную богиню; нетрудно было вообразить, как легко и плавно движется она по дремучему лесу, с колчаном и стрелами за правым плечом, а левой рукой ведет за рога олененка, туника подобрана выше колен, чтобы не стеснять движений стройных, скульптурных ног.
Отец решил, что дочери должны одеваться одинаково, и они, словно близнецы, появлялись то в розовых, то в голубых платьях, косы за ушами заложены кольцами и подвязаны сзади лентами в тон платья. Неудачное решение и, к несчастью Бетуши, бесповоротное! Что шло Гане, не шло ей, а Гане все было к лицу. Одинаковые туалеты облегчали сравнение, и оно было далеко не в пользу Бетуши. Сестры учились играть на фортепьяно и петь, своим искусством они часто услаждали слух гостей на музыкальных вечеринках и кофепитиях, но небольшой приятный альт Бетуши не выдерживал сравнения с чистым и сильным сопрано Ганы, которое даже у людей, против нее настроенных — а таких было большинство, — нередко исторгало слезы умиления; когда она умолкала, слушатели все еще рассеянно и мечтательно улыбались, словно до сих пор были слепы и глухи ко всему на свете и вдруг, потрясенные, неожиданно прозрели, прикоснувшись к подлинной красоте!
Не удивительно, что Бетуша становилась все печальнее, и частенько за столом глаза ее тоскливо косили на тарелку. Она восхищалась сестрой, признавала ее превосходство и свою заурядность, любила ее, как ничем не примечательные люди любят более способных и блестящих, и завидовала. Однако зависть ее была лишена всякого смысла и совершенно беспредметна: хоть и была Гана прекрасна как Юнона, хоть и признавалась обычно королевой балов и кружила головы градецким кавалерам, настоящих поклонников у нее было не больше, чем у Бетуши, а точнее: ни та, ни другая не имела ни одного мало-мальски серьезного претендента, — все знали, что живет Ваха на чиновничье жалование и еле-еле сводит концы с концами, а поэтому за дочерьми ровным счетом ничего не даст.
«Об этих и думать забудь, держись подальше, — наказывали градецкие мамаши своим взрослеющим сыновьям, глядя из окна, как девушки прогуливаются с отцом — обе в наглаженных платьях, сшитых по последним журналам мод, которые они выписывали из Парижа. — Чиновничье положение — показной блеск. У чиновничьих дочек денег нет, а работать, хозяйничать, шить и стряпать, как простые девушки, они не умеют. Нет, нет, парень, держи ухо востро и остерегайся девушек Ваховых, эти модницы по миру пустят, их холеным ручкам, особенно Ганиным, только бы деньгами сорить, все у них напоказ, вечно они расфуфырены, а за душой ни гроша. Вахи живут не по карману». И это было худшее из того, что говорилось о Вахах.
5
Годы шли. Словно молодая тигрица в клетке, ходила Гана свободным широким шагом по сонным градецким улицам, а за нею неотступно, как тень, следовала Бетуша. Обе они постепенно теряли надежду достичь цели, для которой были созданы. Перезревали: Гане уже исполнилось восемнадцать, Бетуше — только на год меньше, и поскольку по-прежнему не пропускали они ни одного бала, то становились уже чем-то обыденным, приевшимся и даже несколько странным.
Общество, куда они с маменькой после обеда ходили на чашку кофе, слыло самым изысканным в Градце, высшим обществом, куда был зван даже бургомистр, пан Коллино, отец двух дочерей, живший на широкую ногу. Когда в шестьдесят пятом году его дочери вышли замуж, их ровесницы Гана с Бетушей вошли в круг замужних дам, принявших сестер с оскорбительной снисходительностью. Полдники, которые с безумной расточительностью устраивала сама пани Коллинова, были превосходны, гостям вместо кофе подавали настоящий китайский чай, а к концу приема на столе появлялся пылающий пунш. Не менее роскошны были кофепития у пани Ветвичковой, супруги торговца полотном и кустарными кружевами, чей единственный сынок, в ту пору еще шестнадцатилетний, в танцклассе без памяти влюбился в нашу Гану; поскольку родители выбор его не одобряли, он покушался на самоубийство, напившись красных чернил, которыми написал Гане прощальные, трогательные стихи. Промыв юнцу желудок и уничтожив компрометирующие вирши, родители отправили его в Прагу продолжать курс учения. Там он вскоре отрекся от первой любви, но не от поэтических опытов и, к огорчению отца с матерью, опубликовал, да еще под собственным честным именем, сборничек стихов под названием «Написано кровью».
Кроме сына, у Ветвичек была еще дочь-невеста, девица неимоверной толщины, вкушавшая, по ее собственному признанию, пищу шесть раз на день; оттого-то маменьки и предостерегали против нее своих сыновей-женихов — эта, мол, ненасытная, все состояние проест. Ради дочери Ветвички, как водится, устраивали роскошные журфиксы, и хотя у них не подавали горячего пунша, как у Коллинов, но угощали шоколадом или какао; а дочка обычно снисходила и соглашалась сесть за фортепьяно. Любопытства ради позволим себе заметить, что барышня Ветвичкова исполняла только те пьесы, где нужно было этаким эффектным и изысканным жестом перекрещивать руки.
Поскольку пани Магдалена с дочерьми всегда была звана на вечеринки, ей в свою очередь приходилось собирать гостей у себя, — а это «влетает в копеечку, а все без толку», — говаривал отец, все больше огорчаясь и нервничая из-за своих дочерей. Каждый день, не отмеченный визитом солидного человека, который явился бы просить руки Ганы или Бетуши, пан Ваха считал пропащим, а так как солидных женихов и в помине не было, то вся жизнь ему казалась пропащей.
— За что меня бог наказывает! Мои дочери — старые девы! Есть ли на свете что-нибудь более никчемное, чем старая дева? Вот этот старый, расшатанный стул и то на что-нибудь да годится: на него можно сесть отдохнуть, а куда годны старые девы? Что стоит девчонка, если никто не хочет взять ее в кухарки, в прачки, погреть постель!