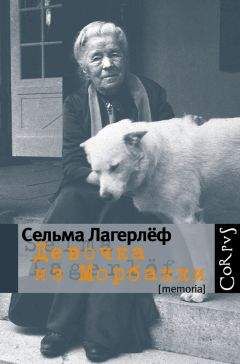Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейной трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяюшки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.
И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности к Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи; он и на брак с Христиной решился после восемнадцати лет совместной жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. «У нас будут дети! — думал он горделиво. — И я ужо не упущу их, как упустил бедного Августа».
В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с проницательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещенный, систематический ум мужчины.
В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда по излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижималась к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?
Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть не смущала Гёте — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости; нельзя исключать и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.
Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, — в отличие от всех немецких князей он способен быть не мелким.
Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удаться? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?..
Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутливо-странный вопрос.
— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?
— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политичной уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.
— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.
— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.
— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.
— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.
Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением — к каждому труженику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.
К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жиизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки Шиллера или рассыпался в доверительно-сентиментальных сарказмах Гердера.
— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — неискренним — от раздражения — тоном продолжал Гёте. — Нам обоим придется помолодеть.
— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне поздновато.
— Что вы мелете? — вскинулся Гёте. — Вы же моложе меня на шесть лет.
— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.
— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гёте, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.