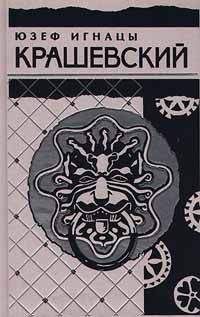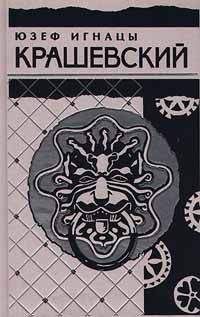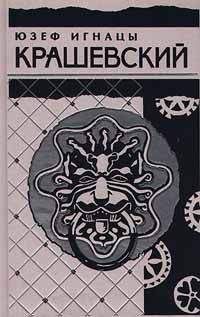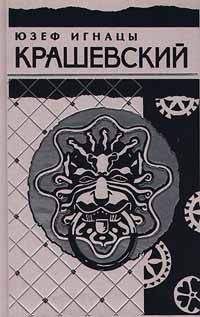Тадеуш приблизился к ней и не сводил с нее глаз. Она шла с засунутыми в карманы свитки руками, покраснев, с опущенной головой, словно стыдилась чего-либо, и была так прекрасна. На лице ее не было улыбки, какие вообще появляются на устах простых женщин, когда они рады взглядам и похвалам. Она опустила голову, в замешательстве краснея.
— Аз витки ты? (откуда ты?) — спросил Тадеуш.
— Из села.
— С Озерок?
— С Озерок, — отвечала она по-польски.
— Ты говоришь по-польски?
— А что ж, говорю.
— Где же ты научилась?
— Во дворе.
— Где же ты была во дворе?
— Здесь, у господ.
— Как тебя зовут?
— Уляной.
— А твоего мужа?
— Оксен Гончар.
Все это говорила Уляна тихо и неразборчиво, оглядываясь и прибавляя шагу— Но Тадеуш был сильно занят этой ангельской внешностью в такой убогой оболочке и не отставал. Взглянул на ноги; ножки у нее были маленькие, но замаранные и черные. Вынула она руку из кармана, поправляя волосы, и рука была маленькая, розовая. Лицо у простонародья еще иногда попадается красивое, но рука? Рука, это привилегированное украшение тех, кто ничего но делает; и имеет, кажется, красивую ручку только для того, чтобы ей хвастать; рука была чудом.
У Тадеуша уже недостало вопросов; у него билось сердце и горело лицо; а она так бежала, что он, наконец, должен был оставить ее, спросив только издалека:
— Куда же ты идешь?
— В лес за грибами.
Тадеуш повернул по тропинке в сторону и побрел, задумавшись. Появление этой красивой женщины вызвало в его голове тысячу тяжелых воспоминаний.
— О, — говорил он самому себе, оглядываясь на белеющую вдали свитку Уляны, — это цветок, заглохший среди негодной травы; цветок, который был бы красивее многих наших оранжерейных, если бы только вырос в садовой клумбе, а не в лесу. И не Оксен Гончар, но сколько лучше его умеющих любить, любили бы его. Как мог бы быть с ней счастлив кто-нибудь! Эти глаза не врут, в ней есть душа, но эта душа спит и будет спать целую жизнь. О, как был бы, — повторил он тихо, — кто-нибудь счастлив с нею. И не один, — прибавил он тотчас же с сарказмом. — Но один, двое вместе, может быть пятеро, десятеро, один за другим.
Это последнее странное замечание вызвало память о прежней любви, где счастлив был не один он только, а кажется двое вдруг. Воспоминание его мучило его.
Тадеуш опустил голову и пошел в лес задумавшись.
Через несколько дней потом все были в поле, а Тадеуш, против своего обыкновения, направился по дороге, ведущей к деревне, в избу Гончара. Зачем, он сам не знал этого; а когда спросил себя и сознал, для чего делает это, то смеялся над собой, и, однако ж шел, словно зверь, которого тянут на веревке.
Как часто в одном человеке резко обозначаются два человека. Люди положительные и управляемые только рассудком никогда не чувствуют в душе этого раздвоения. Для иных же натур это составляет нестерпимое страдание. Часто в них один человек смеется над плачем другого, осмеивает его поступки и среди высочайшего блаженства, указывает тучи, сбирающиеся на небе, разбивает наслаждение, анализирует его, обнажая своим недоверием. Холодный разум, как страж сидит высоко, смотрит под ноги и остерегает, и осмеивает. Человек редко послушен ему, и разум мстит насмешками, мстит позднейшими укорами. Чем менее слушают его, тем сильнее допекает он, тем больнее кусает, тем более насмехается. О, это мученье! Сердце летит в свет, человек протягивает руки, чувствует себя уже счатливым, хватает свое счастье, а этот страшный голос Кассандры, которую человек носит в себе, кричит ему беспрестанно: — увидишь завтра твое счастье; или: — приглядись, чего добился. И тогда человек оглядывается, начинает не верить, перестает быть счастливым.
Этот нравственный голос всегда сопротивляется воле человека, всегда становится ему поперек дороги. Увы, он всегда пророк разрушения, и пророк справедливый.
И человек опускает голову, закрывает глаза и повинуется страсти, не поднимает век, пока не разбудит его сатанинский смех торжествующего разума. Разум этот, или назовите его как хотите, несносен, упрям, неумолим. Голос его беспрестанно звучит в ушах и не дает покоя; заглушить его нет возможности, он с тобой везде, как твоя совесть, он часть тебя, но часть оторванная, независимая, которая плюет тебе в лицо, валяется с тобой в грязи и не замарается, смеется над твоими наслаждениями, осмеивает неудачные намерения, горделивые планы показывает разрушенными.
Кто же из нас не знает этого неотступного товарища, этого змея, который, опоясав вас, сосет из груди вашей спокойствие и, заранее стращая черной будущностью, стирает сладкие чары жизни? Кто же из вас не знает этого несносного надоедалу, от которого не скроешься и в самой глубине собственного сердца? Не убежишь от него, не подделаешься к нему; несносный упрямец, чем больше хочешь остановить его, тем еще сильнее грызет он вас.
Тадеуш боролся именно с этим врагом. Два человека говорили в нем: один — холодный, рассудительный, насмешливый, другой неосмотрительный, страстный, неопытный.
И первый безжалостно смеялся над другим, мучил его, корил, а другой, словно не слышал, словно не чувствовал, словно не понимал.
— Что же это? Ты полюбил Гончариху, простую деревенскую бабу, — говорил насмешник. — Мерзость… Соблазн… Стыд… Неужто осмелишься отважиться? Знаешь ли что это поведет за собой?
На все это Тадеуш ничего не отвечал. Шел, слушал и молчал.
Действительно, с ним делалось что-то непонятное. Произошла какая-то перемена. Ночью, не город с своим шумом, не лес с качающимися соснами и благоуханными березами, но прекрасные глаза Гончарихи снились ему; и глядела она на него этими глазами с тысячью обещаний и с какою-то упоительною грустью.
Послушный непреодолимому желанию видеть глаза этой женщины, он шел к избе Гончарихи. В деревне было тихо, только дети играли на улице, старушка несла, покашливая, ведро и ежеминутно отдыхала, маленькие девчонки, в одних рубашенках, напевая, плясали по грязи перед избами, хороводом взявшись за руки. Войдя в деревню и приближаясь к избе, Тадеуш приостановился и устыдился самого себя.
— Безумный, — крикнуло ему одно я, то, которое никогда ничего не делает и беспрестанно смеется над всеми поступками человека. — Зачем ты идешь? Что ты думаешь?
А другое, послушное, я, оправдываясь в своем поступке, от которого не хотело отказаться, говорило:
— Перестань, ее верно нет в избе, она должна быть в поле. На это неотвязчивый насмешник шепнул ему на ухо:
— А если она дома, и ты войдешь к ней, все будут знать об этом; муж прибьет ее, хоть и не за что. А тебе разве будет от этого лучше свободнее, веселее? Поможет ли тебе это?
— Мы войдем только напиться воды, — сказало тихонько другое я. — Что же в том, в самом деле, дурного? Да мне даже и очень хочется пить, так жарко.
Он уже стоял перед низенькою дверью избы, тронул щеколду и вошел.
А насмешник хохотал совиным голосом и восклицал:
— О, прекрасно, превосходно, бесподобно! Иди же скорее за новым обманом и за новыми страданиями.
Уляна была дома, стояла в сенях около птиц и что-то работала. Заметив барина, она покраснела, побледнела и остолбенела от удивления и испуга.
Надо заметить, что Тадеуш никогда не ходил по деревне, не бывал в избах. Бедная женщина все это поняла, задрожала и молча ждала, что скажет он ей.
— Дайте мне воды, Уляночка, — сказал тихо Тадеуш, переступая порог.
Гончариха побежала за ведром в первую избу и, все еще красная и трепещущая, вынесла кувшин воды. Тадеуш, будто пьет, поглядывал, но пил он тихо, и смотрел пристально. Уляна закрывалась, утирая фартуком лицо, и не знала, что делать. Дворовые так приучили ее к грубым шуткам, от которых надо было защищаться пятерней и кулаком, как от волка, что наконец, глядя на спокойное, по-видимому, лицо пана, неподвижное его положение, она начала сомневаться в том, что прежде пришло ей на мысль.
— Что ж вы тут делаете одна? — спросил он ее через минутку.
— А что ж. Обыкновенно, в доме найдется работа.
— Все в поле?
Этот вопрос опять напугал женщину: она молчала, но, как бы вместо ответа, с улицы послышались детские голоса.
— Может быть не рада видеть меня в избе?
— О, и очень, — ответила она принужденно и холодно, снова отирая лицо фартуком. — Наша изба бедна, чем принять пана?
— Богата, коли ты хозяйка, моя красивая Уляночка, — произнес в замешательстве и сам не зная хорошенько, что говорил Тадеуш.
— Разве это богатство? — ответила Гончариха, вздыхая.
— Все тебя любят.
— Тем хуже.
— Отчего?
— Разве вы не знаете? Коли люди любят, так муж не любит, нет ладу в доме: только плач да беда… хуже голоду.
— А муж очень любит тебя?
— Не знаю, должен любить.