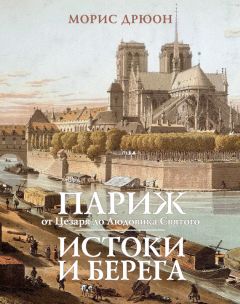В чем же секрет колдовства?
Природа задолго до человека проявила здесь особый талант, а стихия показала себя прекрасным творцом.
Почва Во, его камни, сама геологическая структура состоят из живой материи; вернее, эта материя когда-то была таковой: миллиарды морских жизней, откладывавшихся сюда на протяжении миллионов лет, миллиарды ракушек, громоздящихся друг на друга, спрессованных, сплавленных собственной тяжестью, аммонитов и туррителл[3], чьи окаменелые автографы — спиралька или очертания раковины — часто можно встретить на склонах карьера или на извлеченных оттуда камнях. Здесь все время ступаешь по ушедшим жизням.
Когда море отступило от этих берегов, за дело взялся ветер. В течение последующих тысячелетий он обрабатывал своим резцом эти скалы, вырезая на них гигантские глаза, рты, лица, вырубая застывшие фигуры орлов, замки с неясными очертаниями, сказочные ажурные башни. О, у него богатое воображение, у этого ветра!
Затем другие воды — воды Роны и влившегося в нее Дюранса — столетие за столетием стали приносить к подножию этих вечных, овеваемых всеми ветрами статуй глину, кремнезем, перегной, аллювий, откладывая их поверх исчезнувших жизней.
После чего настало время человека. И он пришел и добавил к творению стихий свои труды — хрупкие отложения собственного гения: начал сеять хлеб, сажать виноградники, оливковые деревья, сначала рубить — ветви для хижины, потом вырубать — камни для дома и строить, возводить эти сводчатые строения из светлого камня, овчарни и давильни для винограда, которые мы переделываем сегодня в роскошные виллы.
Желая постичь причины очарования этих мест, я лишь сильнее испытывал его на себе. Но по крайней мере, я научился настраиваться на эти места, на их время.
Я знаю теперь, что их ароматы начинают ощущаться сразу после Сен-Реми, на склонах массива Альпий, а точнее — в Антике: это благоухание, что, пронизав шевелюру вековых сосен, витает вокруг арки и мавзолея, выстроенных в память юных принцев, мертвых вот уже два тысячелетия. Мне кажется, я и с завязанными глазами узнал бы его, этот запах, навсегда слившийся в моей душе с сыновьями Августа[4].
Я знаю, что зимой, едва долина Карита раскроет свою окрашенную зарей ладонь и коснется розовыми ноготками моего окна, мне надо со всех ног мчаться на улицу, чтобы, пусть даже дрожа от холода, успеть насладиться этим мимолетным великолепием. И этого благословения мне хватит на весь день.
Я знаю, что майским утром, когда горные тропы, как густым ковром, покрываются цветами, растущими только здесь, надо обязательно прогуляться по окрестным холмам верхом и, пока конские копыта будут топтать эти лазурно-золотые пятна, попытаться объять взглядом один из самых необъятных, самых величественных горизонтов Франции, задерживаясь то на донжонах Бокэра и Тараскона, то на башнях Монмажура, то на кольце арлезианских арен и наблюдая, как ширится, неся свои коричневые воды к морю, могучая Рона.
Я знаю, как в деревеньках этого маленького королевства — Моссане, Параду, Фонвьейле — хорош полуденный час, когда солнце что есть силы обрушивается на платаны, жизнь замедляет свое течение по жарким улочкам, а в руке восхитительно пахнет запотевший стаканчик анисовки.
Я знаю, что в августовское пекло, когда палящий зной усиливает ароматы чабреца, розмарина, смолы, когда прохлада каменных коридоров кажется особенно удивительной, надо обязательно побывать в ущельях Валь-д’Анфер, проникнуть в эти тревожные лабиринты, в эти гигантские подземелья, вырубленные в нутре горы заступом каменоломов, в эти неожиданные святилища неизвестных богов.
Секрет очарования… Я спрашивал о нем у осенних теней, любуясь ими с высот Десте; у старых камней ступенчатых римских мельниц Барбегаля, которым нечего больше перемалывать, кроме закатных красок.
Однажды я чуть было не поймал его, этот секрет, ночью, в тишине спящих диких долин, где Мон-Паон, этот одинокий король края Бо-де-Прованс, занят своим вечным делом: подпирать звезды.
Вот уже двадцать лет, как я пытаюсь раскрыть секрет этой земли. А может быть, имя ему — гармония, то, к чему вечно стремится жизнь во всем своем разнообразии.
МиндальТемная юбка и розовая шаль, черный лиф и белое покрывало: словно арлезианки в свадебных нарядах, миндальные деревья открывают весеннее шествие.
Голая еще земля, холодное небо. В наше время, когда теплицы, удобрения, самолеты бросают вызов привычной смене времен года, февраль все еще остается тяжелым месяцем, месяцем отчаяния.
А долгое ожидание — серьезное испытание для мужества. В последние часы зимних тягот душевные силы слабеют, и никакие воспоминания, никакие обещания тут не помогут.
И тогда, задолго до появления первой листвы, зацветает миндаль.
В латыни все деревья были женского рода. Латинский язык сделал правильный выбор, с этим согласится каждый, кто видел цветущий миндаль. Это дерево-женщина, дерево-нимфа, любимая прислужница Персефоны, посланная вперед, чтобы подготовить приход своей госпожи.
Я не могу считать год начавшимся, пока не увижу небесную лазурь сквозь слоновую кость и кораллы цветущего провансальского миндаля. Как во время жатвы надо подобрать двенадцать колосков — на счастье, так и я обязательно должен сорвать с дерева-нимфы веточку или соцветие — для исполнения желаний. А если мне самому что-то помешает съездить на свидание с ними, я попрошу прислать мне веточку, которая благословит мой стол, мои труды снегом своих лепестков.
Конечно же, миндаль должен быть женского рода. Я снова возвращаюсь к этой мысли, потому что мне легче было бы говорить об этих деревьях, если бы я мог сказать «миндаль — она».
Есть у меня среди них свои любимицы, подружки, к которым я возвращаюсь из года в год.
Вот, например, эта дюжина: шесть пышных, дородных и шесть тоненьких, хрупких, одни похожи на матрон, другие — на девочек. Набросив на плечи покрывала лепестков, они стоят кружком в глубине долины Карита, готовые вот-вот закружиться в стремительной фарандоле.
А вот еще четверка, у старой Тарасконской дороги: протягивают убранные кружевами руки к телеграфным проводам, словно пытаясь отправить с ними свои розовые послания.
Есть и другие, что выстроились чинными рядами на красном глиняном ковре, за Ма-де-ла-Дам, на почтительном расстоянии друг от друга, чуть наклонив вперед пышный бюст, будто шагают к Антику и Сен-Реми, оставаясь при этом на месте.
Или эти, у подножия Бо, в окрестностях Сент-Берт, — заняли лучшие места на арене, образованной массивом Альпий, и ожидают, дрожа от нетерпения, когда же весеннее солнце загорится кокардой во лбу у Тельца.
А одинокие миндальные деревца, которые то и дело встречаются на пути… Одно неожиданно возникает на гребне холма, вознося к самому небу свою радостную белизну. Другое, преисполненное любви, цветет и цветет перед давно заброшенной овчарней.
Но вот подули мартовские ветры и сорвали с наших арлезианок их праздничные уборы, на несколько дней уподобив персидскому ковру землю вокруг них.
И потом одиннадцать месяцев провансальские миндальные деревца будут стоять черные, кривые, шершавые, дуплистые, потрескавшиеся, словно старухи, так рано и так быстро спалившие ради нас свою молодость.
А еще есть сам миндаль. В наши дни он так и остается — несобранный, нетронутый, обделенный вниманием — висеть на ветках в своей дырчатой скорлупе до зимы, до следующего цветения.
Откуда эта беспечность? Неужели дети разучились протягивать руку, неужели никого в этом мире не привлекает больше эта душистая мякоть? Или время нынче так дорого стоит человеку, что он стал пренебрегать земными дарами?
Ла КроВсю зиму Ла Кро принадлежит овцам. Обширные каменистые луга, зеленеющие под защитой кипарисовых завес, серые пруды, отражающие переплетения кустарников, каналы цвета олова со светло-желтыми камышами по берегам — таков этот странно плоский край, где человека встретить труднее, чем стадо. Глядя на Ла Кро, можно подумать, что миллионы овец, вот этих, с одинаково опущенными головами, за несколько тысячелетий вылизали, вытерли, уплощили его своими языками.
У каждого стада, шерстистым ковром раскинувшегося на траве и камнях, своя окраска, которая варьирует от пепельно-черного до золотисто-песочного цвета, в зависимости от почвы тропы — сланцевой или глинистой, — по которой овцы возвращались с пастбища и которая соответственно окрасила их шкуры.
Тучные бараны с загнутыми к земле рогами сливаются с массой овец и ягнят; лишь рыжие пятна коз оживляют иногда это однообразие, да время от времени золотоглазый козел вздымает над ним увенчанную витыми рогами голову.
Бахромчатые края ковра сторожат обычно три собаки. Одна, угрюмая, с глазами разного цвета, сидит на краю поля, словно охраняет храм. Вторая, маленькая, чернявенькая, пятнистая, без устали бегает вокруг. Третья, старая, добродушная, лежит поодаль темным пятном и, кажется, особенно любит пастуха.