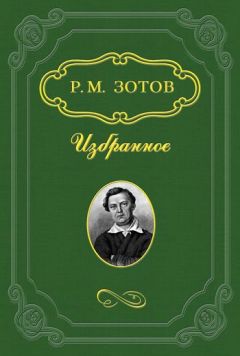Ан по дворцу толки пошли. Борис Иванович Морозов[8] первый: пристало ли церковникам во власти с государем тягаться? Не о мирской ли силе и власти тут хлопоты? В Иове многие засомневались — от Годунова зависел, царю Борису душой и телом был предан. Грехи годуновские разрешил не он ли?
Собинной друг все сомнения отверг — не мирянам о совести князя церкви толковать! Мирскому суду патриарх не подвластен. А жизнь прожил, дай Господь каждому. В Старице родился. В Старицком монастыре воспитался. Там же в юности монашество принял. Еще в 1571 году в Москву настоятелем Симонова монастыря переведен. Шутка ли, доверие государя Ивана Васильевича Грозного заслужил! В колымаге царской по монастырям езжал. А там, гляди, архимандритом Новоспасского московского монастыря стал, епископом Коломенским, архиепископом Ростовским.
Держал ли его руку Борис Годунов по первоначалу, нет ли, только сам государь Федор Иоаннович положил лишить сана митрополита Московского Дионисия и рукоположить на то место Иова. Верно одно — должен был поддержать царский шурин государя, чтобы решился Федор Иоаннович первый раз патриарха избрать без благословения патриархов восточных. Собственного! Всея Руси! День-то какой для церкви православной — 23 января года 1589-го! И досталась та честь Иову.
Воле царской Иов никогда не перечил. Одну заботу знал — православие по всем землям утверждать. Тут тебе земли и грузинские, и карельские, и сибирские, и казанские. Правда, не во всем государю своему потакал. Хотел Борис Годунов университет, по образцу иноземных, открыть — воспретил. Не уговорил святейшего царь Борис. Может, времени на уговоры не хватило — смута пошла. Самозванец патриарха сана лишил, да как! Богослужение в Успенском соборе шло. В храм люди с оружием ворвались, на святейшего с руганью да побоями напали. Ризы сорвали. Насильно в черную рясу простую обволокли да в Старицкий монастырь отвезли. Еще раз только царю Василию Шуйскому[9] запонадобился, в Москву, разрешить клятвопреступление народа русского, что законному царю Борису изменил.
Радостно, поди, у страдальца на душе было, да радость недолгая оказалась. Шуйский обратно в Старицу отправил. Еле до монастыря добраться успел и Богу душу отдал. Еще одну память оставил. Сочинениями церковными, подобно киру-Иосифу, не занимался, а «Повесть о честном житии благоверного и благородного царя Федора Иоанновича» написал. Там и для царя Бориса место нашел, добрых слов не пожалел.
5 марта (1652), в день Обретения мощей благоверного князя Федора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских, мощи первого патриарха Московского и Всея Руси Иова из старицкого мужского Успенского монастыря перенесены в Москву и торжественно помещены в Успенском кремлевском соборе.[10]
Уже на перенесении мощей Иова многие в кире-Иосифе засомневались: телом ослаб, разум вроде мутиться стал. Не жилец! Только тогда в мыслях мелькнуло: кабы на патриарший престол да собинного друга… Захотят ли церковники? Не возмутятся ли? Совета держать не с кем. Многим, ой, многим собинной друг не по нутру пришелся: строг не в меру, потачки никому не дает. Так и толковали: о церкви более, чем о государе печется, а все, мол, от гордыни. Боялись, не иначе. Завидовали дружбе царской — и это было. С кем государь чуть что письмами обменивался? Не дьяку диктовал, а для секретности собственной рукой писывал. Кому ж во дворце не обидно!
15 марта (1652), на стояние Марии Египетской, скончался 5-й патриарх Московский и Всея Руси Иосиф. Погребен в кремлевском Успенском соборе. Всяких чинов люди приходили для прощения и целовали руку. При выносе раздавались милостинные деньги присутствовавшим властям, старшему и младшему духовенству, церковным слугам, звонарям, сторожам. Роздано в Большую тюрьму 477 человекам, а по приказам колодникам 385 человекам, в богадельни трем сотням. Нищих кормили на Патриаршем дворе, в Столовой палате, по 100 человек в день. Всего на вынос роздано 105 рублей 14 алтын и 4 деньги.
Во дворце, известно, одними обидами дышишь. Слова правды нипочем не услыхать. Все исхитриться, угодить норовят, никому, акромя себя самого да сродственников своих, ходу не дать. Собинной друг иной. Ничего скрывать не станет. Иной раз едва не сгрубит, а все как есть выложит. Надежность в нем есть. Слову своему хозяин. Потому и по сердцу пришелся, когда на поклон во дворец явился.
Игумен Кожеезерского монастыря. На Онеге. Одни, сказывают, там леса да болотные топи. Порядок такой — коли в Москву приехал, молодому государю поклониться.[11] И впрямь молодому: полугода не прошло, как на царство венчался, и самому-то от роду едва семнадцать набежало.
Сразу порешил: быть игумену Никону архимандритом монастыря Новоспасского, Там отеческие гробы. Туда и приезжать часто можно. Беседы вести.
Жизнь игумена вся как на ладони. Крестьянский сын из Нижегородских краев. В детстве сколько от лихой мачехи зла хлебнул, а все равно грамоте выучился, книжную премудрость одолевать в Макарьев-Желтоводский монастырь бежал. Отец сыскал, хитростью выманил. Только все равно Никита, как в миру его звали, священничество принял, женился, троих детей прижил, а в монастырь вернулся.
В одночасье Бог деток прибрал, сам признавался, с сердцем не справился. Жену постричься уговорил и сам постригся. Тяжело прощались… Тридцати лет от роду на Белое море ушел, да с настоятелем не ужился, не согласился с лукавством, как тот с милостынными деньгами управлялся. Один в скиту жить стал. Холод. Голод. Как на дворе потеплеет, гнус заедает. Оттуда его монахи игуменом и выбрали. Уговорили.
Он и в Новоспасском монастыре не переменился. Беседы с государем ученые вел, Священное Писание толковал, но ни разу не пропустил, чтобы за униженных да обиженных не попросить. Знал ведь, что может государю досадить, — не боялся. Куда! Раз от раза все больше прошений собирал. О каждом, как о личной милости, просил. Горд-горд, а тут и в землю поклониться мог.
Сначала повелено ему было каждую пятницу во дворец для собеседования приезжать. Дальше — больше: и вовсе приемом всех челобитных государю на неправый суд заниматься. Ничего не скажешь, многим помог, бесчинствам многих судей предел положил. А уж тут, хочешь — не хочешь, с любовью народной и ненависть дворцовая поднялась. Наушничанью да доносам конца не видать.
Сказал собинному другу о престоле патриаршьем — теперь-то освободился, теперь-то все равно занимать придется. Строго так посмотрел: как Собор жеребья положит, так тому и быть. Не положит! И гадать нечего — не положит. Тут и власть царскую употребить в самый раз. Вскинулся: не хочу царской милости, хочу правды! Правды? Будто неизвестно: на Руси она у каждого своя, какая кому удобней. Кабы в открытую голоса подавали, да еще при царе, тут бы воле царской противиться не стали. А с жеребьями, известно, каждый волю свою творить станет. Не справишься!
2 июня (1652), в канун праздника Всех Святых, в земле Российской просиявших, царь с царицей и всем семейством отправился в поход на богомолье к Троице. Почта сразу по выезде царского поезда из Москвы в городе вспыхнул пожар. Для присмотра и распоряжений по борьбе с огнем было отпущено несколько бояр, среди них царский дядя Семен Лукьянович Стрешнев. Пожар продолжался более четырех дней, что заставило царя прервать богомолье и вернуться в Москву.
О митрополите Филиппе[12] собинной друг давно толковать стал. Мало мощи святителя в столицу перенести, надо и прощения у него просить за невинное претерпение и смерть насильственную от Ивана Васильевича Грозного. И не иерархам церковным прощаться у святителя, а самому государю: за предков своих венценосных, раз венчан на царство их скипетром и державой.
Оно и верно — о Колычеве Федоре Степановиче, как в миру митрополита звали, разговор особый. Семья древняя. Род знатнейший. Сам государю Василию III Ивановичу служил верой и правдой, а вдовой его княгине Елене, как правительницей стала, не угодил. Колычевы Андрея Старицкого[13] поддержали противу государыни, за то головами и поплатились. Федору Степановичу, едва не единственному, на Соловках спастись удалось, безвестно постричься. А как игумена не стало, монахи ему хозяйство монастырское доверить решили.
Хорош был Федор Степанович в миру, того лучше брат Филипп в монастыре. До всего руки в хозяйстве монастырском доходили, все в руках спорилось. Промыслы всякие строить начал. Машины, шутка ли сказать, придумывать. Солеварницы по всему Белому морю поставил. Железному промыслу начало положил. Крестьян монастырских обогатил.
Царь Иван Васильевич на игумена глаз положил, чтобы быть ему митрополитом Московским. Игумен воспротивился: тогда только согласие даст, когда государь от опричнины откажется. Дерзость неслыханная, а Филипп не отступился, гнева царского не испугался. Я, мол, Божий слуга: чему быть, того не миновать. Каждый на своем стоял, пока Собор их к примирению не привел. Царь опричнину свою поуймет, а коли нет, игумен прилюдно разоблачать да бичевать его станет. Шел 1566 год. И на что бы царю такой договор?