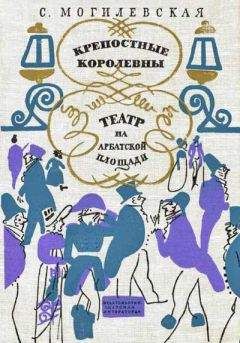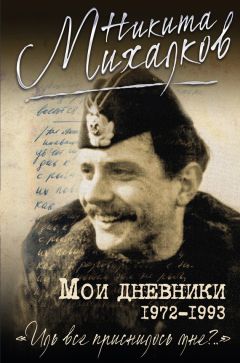Глава третья
О том, как Санька попала на Тверской бульвар
А как попала Санька на Тверской бульвар, она и сама толком не могла понять. Брела себе по московским улицам, глазела по сторонам. Дивилась на барские хоромы с каменными собаками у ворот. А может, это вовсе не собаки поглядывали на нее каменными глазами? Говорят, есть такие звери с преогромными гривастыми мордами, вроде бы на собак походят, только много свирепее…
Видела она и ветхие хибарки, крытые соломой. Таких на улицах Москвы стояло предостаточно, поболее, чем барских дворцов. Возле дворцов — зеленые сады, липы шумят, дубы чуть шевелят листами. Возле хибарок — огороды с огурцами, мусорные свалки да кое-где рябина рдеет спелыми ягодами.
Проходила Санька мимо деревянных церквушек, до того стареньких, дунь посильнее — и на бревнышки развалятся! И кресты на погосте тоже от старости совсем накренились. А чуть подалее — храм божий. Глаз не отвести, краше не бывает! На одних купола золотом горят, на других небесно-голубые с золотыми звездами. Вот где молиться да молиться! Небось из таких-то вернее донесется на небо молитва?
То натыкалась Санька на какой-нибудь плетень. А вперед ходу нет! Никак иначе не выбраться, как лезть через плетень. А за ним — крапивы вдосталь. Лезла и спрашивала себя: «Ну зачем, дура, лезешь?» Отвечала: «Что я, не барыня себе? Куда хочу, туда и лезу!» Вот и получай, барыня: все руки крапивой обстрекались!
А один раз еле спаслась от косматого, злющего кобеля. Вылетел из подворотни, чуть в клочья не изодрал праздничный сарафан. Насилу ноги унесла.
Эх, Санька, Санька, ну куда ты топаешь? Ведь обратно домой нипочем не найти дороги…
И вдруг, пройдя по незнакомой улице с красивыми барскими домами, вышла и вовсе неведомо куда. Что это был Тверской бульвар, Санька знать не могла. Откуда же? Сроду здесь не бывала. Хоть не раз ездила с Лукой в Москву на базары, даже брал он ее с собой на большие торги на Красную площадь. Но эти места посетить не случалось.
Увидев великое многолюдство и скопище разных карет да колясок, Санька сперва решила—не попала ли на какое-нибудь гулянье? На Пресненские пруды, что ли? Или под Новинский? Но нет, те места были ей знакомы. А тут ни прудов, ни Новинского монастыря. Видно, совсем в другие края забрела. Остановилась. Стала глазеть. Чем дольше глазела, тем больше дивилась. По усыпанной песком широкой улице чинно и благородно разгуливали одни лишь господа. Ни тебе каруселей, ни качелей, ни развеселой музыки! Петрушка и тот не пищит. Скоморохов тоже не видно. Просто ходят нарядные господа взад-вперед и разговоры разговаривают. Поговорят, поклон друг другу отвесят, ручкой помашут и пошли шагать дальше.
Батюшки светы родимые, да отколь же сюда столько господ набралось? Неужто со всей Москвы сбежались к этим вот березкам?
В те времена—а происходило всё в 1811 году — Тверской бульвар был совсем не похож на тот, который мы знаем теперь. Не липы, как теперь, а рядами росли вдоль бульвара березы. Липы были посажены много позднее, уже после нашествия Наполеона, после того, как французы, побывав в Москве, срубили и сожгли все березы.
А тогда Тверской бульвар напоминал просторную и длинную березовую аллею, ровно укатанную и посыпанную песком. И был Этот бульвар самым модным и любимым местом прогулок москвичей. Со всех концов съезжалось сюда не только дворянство, но и все иные сословия горожан. Наряду со столичным щеголем с лорнетом у глаз можно было увидеть здесь и богатого откупщика в кафтане. Бренча саблями, расхаживали военные, золотые нити трепетали на их эполетах в такт молодцеватым шагам. И тут же шествовала купчиха в атласном салопе розового цвета. Еле касаясь туфельками земли, кутаясь в прозрачные шарфы, прогуливались молодые красавицы. Следом за ними важные лакеи несли ридикюли и шали с цветастой каймой.
Приезжали сюда, на Тверской бульвар, чтобы часок-другой пофланировать, свидеться со знакомыми, услышать новости, посудачить, а заодно посетить кофейное заведение, которое держал здесь француз-кухмистер. Кофейня эта находилась в деревянной галерейке и славилась прохладительными напитками, а также можно было в ней отведать мороженого, конфет французских и выпить чашечку отменного на вкус чаю.
И стояла Санька как завороженная, крутила головой туда-сюда, боялась что-нибудь недоглядеть… Ну и ну! Таких красивых и нарядных барынь она еще никогда не видывала. Одни шляпки чего стоят — загляденье! С букетами, с перьями, с бантами… Иные же до того высоки да замысловаты — как только их голова держит?
А по обеим сторонам бульвара счета нет экипажам. Тут и кареты богачей — кони кровные, одномастные, как на подбор! И большие желтые коляски, и маленькие, легкие, на двух колесах. А на одной карете на козлах рядом с кучером арапчонка посадили. Черного-пречерного, а нарядного — в красном кафтане с золотыми пуговками.
А кучера-то, кучера! Дородные, бородатые, кафтаны на них голубые, зеленые, малиновые. Толкутся возле карет, переговариваются, ждут, когда барам наскучит ходить взад-вперед между березками.
Но вот услышала Санька:
— Подать карету их сиятельства Измайловой!
Увидела рослого лакея в ливрее с золотыми галунами. Увидела и генеральшу. Каков же сам генерал, коли у генеральши до того взгляд грозный, что и не подступись…
Насмотревшись на все досыта, Санька почувствовала, что устала и голодна. Голодна так, что чугун каши умяла бы в один миг. И ноги гудят в новых, еще не разношенных полусапожках. Надо присесть, отдохнуть, прежде чем повернуть обратно домой.
Утреннее буйство в ней совсем улеглось. С каким-то даже добродушием вспоминала она, как мачеха, не веря глазам, спросила Любку с Марфуткой: «Никак, ушла?» А дурехи сестрицы ей с испугом: «Ушла, маменька, ушла…» Небось рады будут, когда назад вернется.
Ладно, думала Санька, приду, повинюсь батюшке. Вспомнила, как просил ее Лука: «Прости меня, Санюшка…»
А она-то ему — вот бешеная! — «Бог простит». Сама ведь не простила.
А разве не родным отцом, не родной матушкой были ей все эти годы Лука с покойной Матреной?.. А коли матушка иной раз ее крапивой стегала, так, видно, было за что. Испокон веку такое ведется! И Парашку мать стегала в малолетстве. И Аришку косоглазую. И Гриньку тоже. Того отец не только крапивой, а березовым прутом да вожжами сек, вот как! Если с парнем сладу нет, почему не постегать?
И полушалок матушка ей купила. Правда, не тот в розанах, зато атласный, пунцовый. Накинула ей на голову и прошептала, любуясь: «Ишь как на тебе ладно, доченька…» И слезу пустила. Эх, благодарности в тебе нет, Санька, вот что я тебе скажу! Найдя укромное местечко позади скамьи, Санька присела на траву, продолжая, однако, разглядывать всех, кто проходил мимо. Ну и рассказов у нее наберется! Полон короб… Послушают любезные сестрицы, чего она им сегодня наговорит.
Недалеко от той скамьи, за которой устроилась Санька, остановилась красивая барыня, а рядом с нею два барина. Говорили все трое между собою, надо думать, по-чужеземному, слова у них были непонятные. А платье на барыне было уж до того хорошо, что глаз не отвести: голубого переливчатого шелка да с синими бархатными бантами. И шляпка под стать — белая, тоже с синими бантами. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!
Но могла ли представить себе Саня, что темно-голубой наряд, который был в этот день на французской актрисе Луизе Мюзиль и так обольстил Саню, будет подарен именно ей, Саньке? Правда, уж не новый, поношенный, но все равно, щеголяя в этом наряде, она будет сокрушаться лишь об одном — что не может похвалиться им перед Марфушек и Любашей, покрасоваться перед соседской Парашей. Да и мачеха пусть зеленеет от зависти, не жаль…
И так получилось, что оба барина, простившись с француженкой, подошли к той скамейке, за которой в тени, на зеленой траве, сидела наша Санька.
А были эти два человека — один знаменитый в те времена драматург и театральный деятель князь Шаховской, а второй не менее знаменитый московский актер Петр Алексеевич Плавильщиков.
Глава четвертая
О том, как Санька увидела на земле кошелек
Они были очень разными, эти два человека, присевшие на скамью.
Один — старинного княжеского рода Александр Александрович Шаховской.
Второй из купцов — Плавильщиков Петр Алексеевич.
Шаховской — истый петербуржец, слегка презиравший Москву и все московские театральные порядки, о которых знал хорошо, хотя лишь временами — вот как теперь — наезжая в Москву.
Плавильщиков — москвич, верный своему городу, почитавший Москву превыше всех городов на Руси. Самое короткое время он провел на сцепе петербургского театра, чтобы, вернувшись в Москву, уже более никуда не выезжать.
Шаховскому в ту пору, о которой ведется рассказ, было лет тридцать пять или около того, Плавильщикову уже перевалило за пятьдесят.