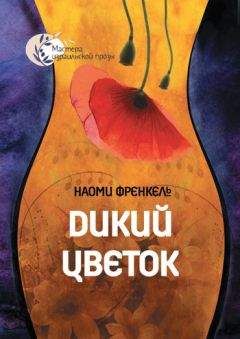Ознакомительная версия.
– Жива, жива, Ганс, – смех добавляет морщины на лице доктора, много мелких и веселых морщинок, – она весьма деятельна, и у нее много новых идей, типа тех микробов.
Вино и смех сделали свое дело. Тяжелый взгляд глаз доктора размягчился в улыбке. Сын уже не сидит в напряженной позе. Отец чувствует, что ему есть, что сказать сыну, что-то значительное, но он не может найти верное выражение своим сердечным чувствам, и потом говорит тоном серьезного беспокойства:
– Но, Ганс, где твои вещи? Оставил за дверью? У нас, в Берлине, нельзя оставлять вещи без присмотра. Многие обнищали.
– Не беспокойся, отец, вещи мои в камере хранения на вокзале.
– Но, Ганс! Почему ты их не принес их с собой сюда?
– Отец, я собираюсь продолжить дальше свой путь еще сегодня ночью.
– Куда? – вскрикивает доктор.
– В Штетин. После полуночи туда уходит поезд. А оттуда отплывает корабль в Копенгаген. Я покидаю Германию навсегда, отец.
– Но, но, – доктор смущен и не может скрыть своего глубокого разочарования, – ты навсегда покидаешь Германию, и ко мне приходишь так не надолго?
– Я не знал, желателен ли тебе мой визит, отец. Я ведь о тебе ничего не знал десять долгих лет...
– Ты хочешь сказать, что я тобой не интересовался? – прерывает его доктор, и брови его сжимаются. – Но так было решено между мной и твоей матерью. Мы верили, что для тебя будет лучше, если я исчезну из твоей жизни. Твоя мать обещала мне, что найдет для этого подходящее объяснение...
– Ну да, естественно, мать нашла объяснение: сказала, что ты умер.
Лицо доктора краснеет.
– Не сердись на мать, отец. – Мирный тон сына успокаивает отца.
– Ты же знаешь, отец, у матери всегда был покладистый и прямодушный характер, но она была простодушна, и не могла в этом простодушии разобраться во всех сложностях, которые ей подносила жизнь. На родине она так и не могла прижиться. Всегда там вокруг нас были всякие шепотки и сплетни. Мы переехали в курортный городок на берегу реки. Мать открыла там гостиницу для отдыхающих, чтобы зарабатывать на жизнь.
– В этом не было нужды, – пресекает его отец, – я обеспечивал вам нормальную жизнь деньгами и имуществом.
– Конечно, отец, само собой разумеется. Полагаю, что не из-за забот о заработке мать открыла гостиницу. Она была молодой женщиной, искала статус в обществе, гостиница была ей нужна для встреч и бесед с людьми. Но она бы не достигла этого статуса, если бы в этом ей не помогла церковь.
– Церковь?
– Церковь, отец. Сразу же с переездом в курортный городок мать вернулась к католической вере. Стала глубоко верующей христианкой, строго придерживающейся заповедей, регулярно посещающей церковь, всегда носящей темные одежды.
– Ну, а ты? – Лицо отца снова краснеет.
– Я, отец? В голове моей была полная путаница. Знак еврейства на моем теле, а священник приходил к нам в дом каждый день, и комментировал очередной отрывок из писания. Но мать ни разу не брала меня с собой в церковь, ни разу не произнесла о тебе плохого слова. Наоборот, отец, она сделала из тебя героя войны. Всегда рассказывала, что раковое заболевание ты принес с собой с войны, и от него умер. Всегда она гордилась твоими талантами, и я тоже гордился тобой и очень тебя любил.
– Ты меня любил?
– Да, отец. Сильно любил. – Голос сына настолько тих и равнодушен, что, кажется, он говорит о жизни чужого человека. – Твой большой портрет висел в комнате матери, и я прокрадывался в ту комнату и всегда пытался сравнить свое лицо с выражением твоего лица. И в день...ах, извини, отец, было, естественно, день в году, который мать определила как день... – Ганс закашлялся.
– Как день моей смерти, – отец пришел ему на помощь и рассмеялся, – и какой же это день?
– Восьмое февраля, отец.
– О. Господи, это же день моего рождения.
– Ну, да, восьмое февраля... В день твоего рождения мы зажигали высокие свечи перед твоим портретом, и преклоняли колени, как в церкви.
– Такая бестолковщина! – сердится отец. – Такая бестолковщина!
– Отец, не сердись на обычаи матери. Несмотря на эти христианские обычаи, я считал себя евреем, верным сыном своего отца. Не вступил в германское молодежное движение, не посещал уроки христианской религии в школе, несмотря на то, что городок наш был националистическим и религиозным, и жизнь моя там не была уж такой радостной, отец. Путаница и суматоха началась с чтением книги доктора Моргенфельда.
– Доктора Моргенфельда?
– Ты не знаком с этой книгой, отец? Жаль. Я ведь хотел что-либо узнать о еврейской религии. В нашем городке евреев не было. Даже в курортный сезон к нам евреи не приезжали отдыхать. Рестораны и гостиницы вывешивали объявления, что вход евреям воспрещен, и потому евреи бне посещали вообще наш городок. Единственно, что я знал о еврействе, я ведь был обрезан. Вот я и заказал книгу о законах и обычаях Израиля.
– Правильно сделал.
– Очень интересная книга, отец. Но там я нашел, что ребенок, у которого мать христианка, тоже христианин... Даже, если отец...
– Но, Ганс! Твоя мать приняла еврейскую веру, когда родила тебя. Стала еврейкой. И ты – еврей.
– Тогда я не придал этому значения. Да и улица добавила объяснения к выкладкам книги доктора Моргенфельда.
– Улица, Ганс?
– Улица, отец. На улицах с восторгом пели: «В еврейской вере ничего неверно, она – источник скверны!» Тебе, верно, знакома эта песенка, отец?
– Еще бы. Кто ее не знает в наши дни?
– Ну вот. Так встретились объяснения доктора Моргенфельда со словами песенки. Я был сыном скверны в глазах у всех. В глазах евреев, потому что моя мать – христианка, и кровь христиан...
– Но, Ганс, я ведь тебе сказал! – вскрикнул доктор.
– Конечно, отец, конечно, сказал. Но как я мог это понять. Был подростком в глазах моего городка, нечистым, потому что отец мой еврей. Путаница и бестолковщина дошли до апогея, когда в один из дней я узнал правду.
– Мать вернула меня к жизни?
– Нет. Не она, а господин Детхольд Айзенбрехер.
– Детхольд Айзенбрехер? Не помню, что был знаком таким человеком.
– Конечно же, не был, отец. Однажды он появился в гостинице матери. Ему необходимо было поправить здоровье, ибо, несмотря на такое имя – «ломающий железо», он был худосочен и нищ. Но чувствовалось в нем, что праотцы его в первобытных лесах Пруссии ломали железо и наследовали своему худосочному потомку преклонение перед сталью, железом, и всему им подобному по крепости и мощи. Он часто любил повторять – «мы, из пехоты», и слово – «инфантерия» произносил так, что каждая буква вытягивалась по стойке «смирно» под его языком. Все живые существа у него делились на два сорта: те, кто служил в инфантерии, и те, кто этого не удостоился. Так, что в один из дней терпение мое лопнуло, и я сообщил ему, что мой отец служил в инфантерии.
– Не дай Бог! Никогда! Я был фронтовым врачом.
– Конечно, отец, я это знал. Да и Детхольд Айзенбрехер знал, он поднял на меня свои голубые глаза странным и сильным взглядом, а моя мать опустила голову. Какое-то беспокойство прокралось в мою душу, не из-за матери, которая отвечала на его ухаживания. Мне было почти пятнадцать лет, и я понимал ее одиночество и видел господина Детхольда Айзенбрехера... Кстати, отец, Детхольд был промышленником, выпускал духи, и крепкий их запах всегда шел от него... Я видел его хозяином в доме матери... И не из-за матери у меня было тяжело на сердце, а из-за странной атмосферы, которая начала окружать твое имя в доме.
– Хм-м, – хмыкнул доктор.
– Неожиданно это показалось мне подозрительным, пока... не открылась мне правда.
– Он сказал тебе? Производитель духов сказал тебе?
– Нет, отец, правда открылась мне на кладбище...
– Что? – воскликнул доктор. – Опять на кладбище?
– Отец, – удивился сын, – что ты сердишься на кладбище? Кладбище в нашем городке было удивительным местом. Именно его предпочитали влюбленные парочки любому другому приятному и таинственному уголку в нашем городке. И меня тянуло туда – уединиться со своими тайнами. Я видел себя вне обычной жизни, неким гибридом, отец. Просто гибридом.
– Хм-м...
– Отец. – Сын не обращает внимания на сердитое хмыканье отца. – Каждый вечер я посещал кладбище. Во мне усиливалось желание вообще уйти из жизни.
– Хм-м...
– Естественно, отец, это желание было глупым, но очень сильным. В тот вечер я пришел на кладбище – остаться наедине со своими мыслями, и вдруг услышал у могильного надгробья священника Эрнста Августа Видершаля, гордости нашего городка, голос моей матери и голос господина Айзенбрехера, на этот раз говорящего не об инфантерии, а обо мне и о тебе:
«Твое прошлое я прощу, но не твоего сына. Я, сын германской нации, не буду растить сына еврея. Верни его отцу, и мы поженимся». Я еще услышал решительное «Нет» матери, и сбежал оттуда. Итак, мой отец жив! Я долго шатался по улицам городка в тот вечер, но так и не нашел выход из возникшей путаницы. Я вошел в комнату матери и нашел ее сидящей у окна, и тут же увидел, по выражению ее лица, что мечта ее не осуществилась. Но я, без всякой жалости, закричал ей лицо: я собираю свои вещи! Завтра вернусь к отцу! И лишь потому, что из глаз ее брызнули слезы, согласился выслушать ее рассказ. Она выложила все, ничего не скрывая. О тебе она не сказала ни одного дурного слова. Сказала, что была недостойна тебя, и умоляла, чтобы я с тобой никогда не виделся, ибо я окажусь под твоим крылышком, никогда к ней не вернусь: до такой степени велика твоя личность, до того сильно твое влияние. Я обещал ей, отец, я даже поклялся. Она была такой несчастной, я ведь был единственным, кто у нее остался. Она во имя меня отказалась от всего, в том числе, от господина Детхольда Айзенбрехера.
Ознакомительная версия.