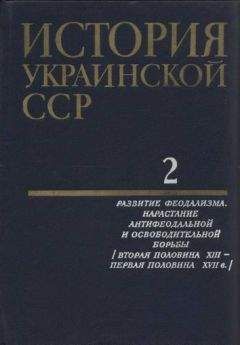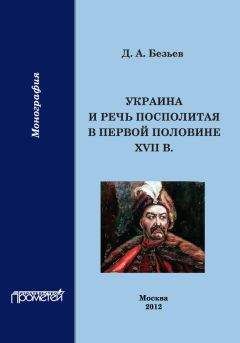— Вот видишь, куда клонят паны! — толкнул Богун локтем Хмельницкого.
— На свою голову пожар разжигают! — ответил писарь войска Запорожского, не оборачиваясь.
От гнева и сдерживаемого возмущения казаки сжимали рукоятки сабель, но молчали, и это молчание было страшнее и красноречивее слов; только Максим Кривонос процедил сквозь зубы:
— Ну, пане Потоцкий, дождешься, подлюга, жива еще казацкая матерь!
Польный гетман беспокойно ерзал в седле. Он был резок и высокомерен с казаками, обходился с ними жестоко и презрительно, но лучше других понимал, что значили казаки для охраны спокойствия Речи Посполитой: ведь это они своей грудью сдерживали турок и татар. С укором взглянув на Лаща, который то ли со злости, то ли со страху потерял самообладание, польный гетман сам обратился к казакам:
— Панове казаки! Его королевская милость светлейший король польский не раз дарил вас своей лаской, своей заботой. За это благодарить надо его королевскую милость. А вы за это — мушкет и саблю подняли против короны и даже помышляли объединиться с татарами, чтобы силой вырвать то, что должно заслужить покорностью и послушанием! Всех вас надо бы отправить ad patres! [К праотцам (лат.)]. Вздернуть! Поелику же сегодня вы покорно принимаете от нас заслуженное ярмо на свою шею, высокочтимое панство сменяет свой гнев на милость... шесть тысяч казаков будет оставлено в реестре...
— В порошок стереть их, схизматов [Схизматы – так поляки, католики, называли православных], а не миловать! — снова выкрикнул Лащ. — Чтобы знали, как противиться воле его королевской милости!
Казаки молчали, только Роман Пешта, вдруг съежившись, с выражением полной покорности, уже открыл было рот, но успел произнести только два слова: «Ясный пане!..» — и сморщился, словно хрену проглотил. Ему изо всей силы наступил на ногу Максим Кривонос.
Возмущение охватило польного гетмана. Теряя вельможную важность, он уже визгливо кричал:
— Изменники, чего молчите? Бунтовщикам сочувствуете? Привилей ожидаете? Вот вам привилеи, бездельники! — Он выхватил из рук писаря постановление сейма и глумливо похлопал по нему рукой. — Поблажек давать больше не будем. На панский двор, на работу!
На последнем слове Самуил Лащ пристукнул о ножны рукояткой сабли.
— 3найте, хлопы, пана!
Верига как рядовой казак не был зван на раду. О ней тайком поговаривали, но где она будет и когда — немногим было известно. Рассчитывая хоть что-нибудь разузнать в дороге. Верига не стал задерживаться на хуторе у Добрыдня. Он в тот же день выехал на Стеблев, оставив Ярину у тетки до весны.
— Так это и тебе придется подчиняться панам, братец? — с грустью сказала сестра на прощанье.
— А чтоб они все подохли! — ощетинился Верига. — Сказано в ординации, чтоб за двенадцать недель выбирался, кто не хочет быть в послушных, так к весне и след мой простынет.
— Может, на Московщину? Туда бы и я поехала: татарва в те края редко наведывается, веры мы одной и крови одной. Заходил это к нам недавно человек с Курщины — сердце порадовалось: говорит, а ты его понимаешь. Только и разницы, что не так записаны.
— Нет, сестра! Хочу я быть сам себе паном. Попробую еще податься на край света крещеного. Уж там не достанет меня польская администрация.
— А татары?
— Нам к сабле не привыкать. Собирайся и ты, Каленик: земли там немеренные.
— И на них пан тоже родится, — ответил Добрыдень, безнадежно махнув рукой. — Нет, Гнат, казаку нужно за саблю браться, а не за землю.
— Да уж подумывают... В ярме казак ходить не будет.
На следующий день, у самого Стеблева, Верига догнал Богдана Хмельницкого с двумя джурами [Джур, джура - ординарец]. Писарь войска Запорожского теперь был понижен: он стал чигиринским сотником. Понижена в чинах была почти вся казацкая старшина, и Богдан Хмельницкий видел теперь, что никакими услугами короне не уничтожить образовавшуюся пропасть. Напрасно иные казаки возлагали надежды на сладкие обещания короля польского Владислава IV — сейм все равно решил по-своему — против казачества. А короли Речи Посполитой как были только украшением, так и остались; значит, верно-таки говорит Кривонос: казакам полагаться надо только на саблю. Это будет и право и закон! Хмельницкий тяжело вздохнул, ощутив всю значительность решения, единодушно принятого старшиной [Старшина – собирательное название казацкой верхушки, командования] на раде. «Право и закон! — повторил он. — Но за это нужно браться с умом. Кривонос только одно и твердит: бей!.. Богун — тот больше дипломат: магнаты, говорит, нам свет застят. Знает, что казак и на старшину искоса поглядывает... Правильно говорит, мол, посполитые [Посполитые - крестьяне] тоже возьмутся за вилы да еще и запоют: бей панов! А для голытьбы кто не в лаптях, тот и пан. Ты думаешь, Максим, что все это так просто? — мысленно обратился он к Кривоносу. — Одного-двух магнатов выкурил из поместьев, убил десяток шляхтичей — и уже для всей Украины волю добыл? Если бы оно так, не пришлось бы присягать на верность королю, как это было на Боровице. Конечно, если все будут такими трусами, как этот Драч из Корсуня, то паны-ляхи и вовсе казацкое звание искоренят. Но и без дипломатии тоже нельзя. Ну, выгоним шляхтичей с Украины, а они соберутся с новыми силами. У них ведь самое большое в Европе войско... Без помощи и думать нечего. Скажешь, против народа никакая сила не устоит, — а кто же клич кликнет?..»
— Челом, пане сотник!
Хмельницкий, то ли углубившись в свои мысли, то ли отвыкнув уже от такого обращения, посмотрел на Веригу невидящим взглядом, а потом часто замигал запорошенными инеем ресницами.
— Ты здесь где-то живешь?
— Вон и хата уже видна. Может, свернем погреться? Хозяйки вот только нет, а она — царствие ей небесное — умела угостить.
Хмельницкий, все еще в задумчивости, ответил:
— Спасибо, Верига, кони выдержат.
— А люди? — Верига пытливо посмотрел на Хмельницкого. — Мы казаки, а вы наши атаманы, вам думать.
Хмельницкий повел глазом в его сторону.
— Слыхал, как в песне поется: «А хто з нас, браття, буде сміяться, того будем бить...» Не все еще забрали коронные паны, если сабли при нас, Верига. Клейноды, верно, сложили на лед, пусть тешатся магнаты, но воли нашей мы не сложили и не сложим. А это наипаче всего!
— А много ли таких?
— Да на Масловом Ставе не уместились бы. И по обе стороны Днепра не умещаются. Так что, Верига, не прячь далеко оружия, оно еще пригодится. — Тронул шпорами коня. — Прощай, мне тут сворачивать.
Верига еще долго смотрел вслед трем всадникам, свернувшим на Чигиринский шлях. По тому, как отвечал Хмельницкий, он понял, что сотник участвовал в тайном сговоре против поляков, хотя и считался сторонником короля Владислава IV.
— А про раду, — уже вслух сказал Верига, — ишь, ни словом не обмолвился. Скрытен-таки, что и говорить, сотник Хмельницкий!
II
Место для хутора Верига выбрал на границе Киевского воеводства. Дальше, до самого Черного моря, тянулась седая от ковылей, нетронутая степь. Это было Дикое поле. В его высоких травах только шныряли татары да кое-где в плавнях рек ютились хутора запорожцев.
Откуда было знать казаку Вериге, что эту степь с реками и озерами еще тридцать лет назад король польский подарил пану Калиновскому? Так она и оставалась незаселенной, а теперь владельцем здесь объявил себя коронный стражник Самуил Лащ, и от него разбежались те немногие поселенцы, которых соблазнила свобода в казацкой степи.
От холмов, между которыми скрывалось жилище казака Вериги, пошло название хутора — Пятигоры. Вокруг хутора верст на десять не было ни одной живой души. Только на Черном шляху, тянувшемся из Крыма на Варшаву, иногда мелькала шапка сторожевого казака либо крутые рога волов. На волах крестьяне возили пищевое довольствие, порох и селитру для гарнизона Кодацкой [Кодак – польская крепость на Днепре] фортеции.
Чтобы было где укрыться от непогоды, Верига сладил себе под горой землянку, обнес ее плетнем, обмазал глиной, на стенах развесил казацкое оружие, в углу — иконы в серебряных окладах, а пол устлал ковриками. Такие землянки, как грибы, разбросаны были по запорожским займищам и назывались бурдеями. В бурдее не ставили печи, не выводили трубы, а складывали из дикого камня мечет [Мечет - очаг], которым обогревали землянку и где пекли хлеб.
В круглое оконце зеленого стекла летом видна была расстилающаяся морем степь, а зимой — безбрежная белая пелена, на которой то вскипала вьюга, то стонала метель да стаями бегали волки.
Верига сторожко поглядывал в оконце: в любой момент из густого ковыля могли выскочить татары в мохнатых шубах на своих долгогривых неуклюжих лошадках и разнести бурдею, а его самого с дочерью на аркане потащить в полон. Теперь только это его тревожило, зато жил он третью зиму на воле. Ни один постылый дозорец не являлся сюда, чтобы, как это делалось всюду по волостям, потребовать на пана десятую овцу, третьего вола, поросенка, меду и овощей. А кур и гусей — и к рождеству, и к пасхе, и на троицу.