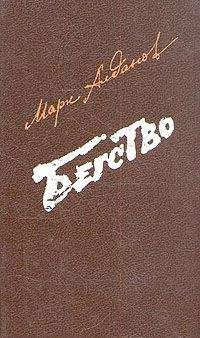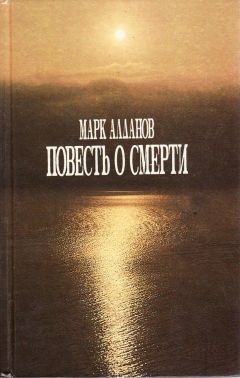Кременецкие, особенно Тамара Матвеевна, приняли живейшее участие в горе Николая Петровича. Витя был принят у них как родной сын. Семен Исидорович, тоже почти не занятый теперь, приезжал к Яценко два-три раза в неделю. Тамара Матвеевна беспрестанно звала к себе Марусю и давала ей то белую муку, то колбасу, то консервы. Из деликатности она часто брала за эти продукты деньги, «по своей цене», но всегда выходило так, что стоили они баснословно дешево.
Другие приятели тоже очень тепло отнеслись к горю Николая Петровича. Ему казалось, что в общей беде люди стали добрее. Приходили к нему даже мало знакомые люди. Так, однажды пришел Александр Браун. Этот неожиданный гость был чрезвычайно неприятен Яценко, — он сам не вполне понимал, почему именно. Вид у Брауна был, впрочем, в самом деле жуткий, и немногочисленные слова его дышали злобой. В тот вечер, когда он зашел, вскоре после кончины Натальи Михайловны, у Николая Петровича было несколько человек гостей. Говорили о новой болезни, пронесшейся в то время по всей Европе. Кто-то заметил, что процент смертности от испанки ничтожен.
— Если бы болезнь эта была смертельной, — сказал с усмешкой Браун, — в ней по крайней мере было бы возможно увидеть «перст карающей судьбы». Но как-то трудно допустить, что за грехи небывалой войны Провидение покарало нас — инфлуэнцой.
Гости замолчали. Это замечание показалось им бестактным и неуважительным в отношении Николая Петровича, у которого испанка унесла жену.
— Ах, неверие, неверие, — сказал со вздохом Кременецкий, — пора все это пересмотреть. Ведь современная наука не стоит на точке зрения материализма и позитивизма, это давно пройденная человечеством ступень. Будущее мыслится мне как своеобразный высший синтез научного и религиозного мышления… Лично л давно пришел к вере в Бога, — сказал Семен Исидорович, ободряя Николая Петровича и как бы свидетельствуя, что вера в Бога отныне не может считаться признаком отсталости, если лично он к ней пришел.
— При виде того, что творится… — начал было Яценко и не докончил. — А вы? — спросил он Брауна.
— Пока Господь Бог меня не лишит рассудка я в Него не поверю, — ответил, засмеявшись, Браун.
И опять резкость, бестактность этих слов, особенно этот неприятный, почти грубый смех кольнули всех гостей. «Атеизм с остротами, очень дешевая вещь», — подумал тоскливо Яценко. Браун тотчас встал и простился.
Николай Петрович выпил кофе, затем снял бархатное покрывало с дивана и сел на постель в раздумьи, безжизненно опустив голову на грудь. «Где же люди, с которыми прошла моя жизнь? — спросил себя он. — Тот говорил: „часть души“… Да что же осталось теперь от моей души?.. Умер отец, умерла мать, сестра. С Наташей исчезло остальное, главное… Что осталось? Политика, служба… Выдуманный мир… Друзья детства? — Он вспомнил киевскую гимназию, радости, жгучие интересы тех дней, катящиеся вниз по улицам весенние потоки, залитый майским солнцем Царский Сад… — Кажется, никого больше нет… Может быть, иные где-либо и доживают свой век, как я. Для меня и они умерли… Кроме Вити никого и ничего нет… Да и ему я больше не нужен…» Николай Петрович припоминал все то тяжелое, что выпадало в жизни на его долю, служебные неудачи, личные обиды, разочарования в людях, которых он считал приятелями, клевету, мерзкие сплетни, пускавшиеся о нем, как обо всех, — это казалось ему теперь совершенно ничтожным. Но почти столь же ничтожным казалось ему теперь и все, что еще могло ждать его в жизни. «Ничего, ничего не осталось, — думал он, и холод все рос в его душе. — Кажется, уж и недолго ждать… Пора, пора», — сказал себе Яценко, взглянув на фотографию Натальи Михайловны, стоявшую на табурете у дивана. Николай Петрович подумал, что именно тогда, когда он смотрел на портрет жены, да еще на кладбище у ее могилы, ему всего труднее было обратить свои мысли к Наталье Михайловне: самые скорбные, щемящие душу воспоминания всегда приходили случайно.
— Да, пора, — повторил он вслух и, вздрогнув, принялся раздеваться. На табурете, вокруг лампы, уже были привычные места для часов, ключей, бумажника. Слева в углу оставалось ничем не занятое место, и там, в старом номере газеты, Николаю Петровичу неизменно бросались в глаза одни и те же строки:
«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: „Да, иду умирать“ и т. п.».
Семен Исидорович с некоторой растерянностью отнесся к помолвке своей дочери: уж очень было странно, что Муся выходит замуж за английского офицера. Осложнялось дело еще и денежным вопросом. О приданом Муси теперь говорить было, затруднительно. Состояние Кременецкого было вложено в государственные бумаги и в акции надежных частных предприятий. Еще год тому назад близкие люди знали, что Мусе назначено в приданое не менее ста тысяч рублей, скорее сто пятьдесят тысяч, а если потребуется, то и все двести. В 1917 году эти цифры потеряли прежнюю внушительность. За доллар приходилось платить пять думских рублей. Никто не сомневался, что столь чудовищный курс не может продержаться долго. Однако именно теперь, как раз тогда, когда было нужно, приданое Муси выражалось в иностранной валюте невзрачной, неприятно звучащей суммой, — как назло, в Англии была такая крупная валютная единица. После октябрьского переворота дело стало еще сложнее. Правда, Семену Исидоровичу незадолго до восстания большевиков удалось, при любезном посредстве Нещеретова, перевести часть состояния в Швецию.
Жизнь Семена Исидоровича шла (хоть он об этом никогда не думал) по двум главным, параллельным линиям: по линии идейно-общественной и по линии материальных интересов. Кременецкий пользовался в делах репутацией человека безукоризненного. Однако свои интересы он всегда умел отстаивать и ограждать превосходно. Так, разговаривая с богатыми клиентами, из которых иные были связаны с ним и по общественной работе, Семен Исидирович очень легко, без всякого видимого усилия, даже почти бессознательно, переходил с одной линии на другую, если беседа вдруг перескакивала с общих вопросов на дела. Линии эти скреститься не могли: то, что Кременецкий иногда со вздохом называл своим «общественно-политическим служением», никак не мешало ему брать с богатого клиента максимальный гонорар, который клиент мог заплатить по роду дела, по своему состоянию и по своему характеру. Не мешало оно Семену Исидоровичу и получать по льготной цене разные учредительские или другие паи в предприятиях его богатых клиентов. В связи с войной прежде строго параллельные линии грозили скреститься. В первые годы войны в обществе относились несочувственно к переводу денег в нейтральные страны; да это было и запрещено. Однако по мере того, как шли события, Семен Исидорович задумывался: переводить деньги за границу было неловко (впрочем, делалось это в секрете); но и оставаться без средств до той поры, пока доллар не будет снова стоить два рубля, Семену Исидоровичу не улыбалось. Летом 1917 года Нещеретов предложил ему комбинацию, при помощи которой, без серьезного нарушения закона, можно было перевести деньги в шведский банк. Семен Исидорович высказал сомнение, — допустимо ли это по соображениям политическим. Нещеретов вытаращил глаза и с беспокойным любопытством подумал, что, вероятно, Кременецкий имеет возможность переводить деньги за границу по лучшему курсу.
В сентябре сомнения Семена Исидоровича рассеялись: у него была семья. Сумму денег он перевел довольно порядочную, однако выкроить из нее приданое для Муси было трудно. Семен Исидорович вздохнул свободнее, когда жених его дочери как-то в разговоре дал понять, что ему ничего не нужно. Из того же разговора выяснилось, что Клервилль, будучи лично человеком не очень богатым, должен со временем получить наследство от чудачки-тетки, у которой было восемь тысяч фунтов годового дохода. Это сообщение чрезвычайно порадовало Кременецких. Семен Исидорович увидел в нем что-то английское: в его кругу никто не получал наследства от теток, — все имели детей, жен, мужей. Нечто приятно-английское было и в определенности самой цифры, — восемь тысяч фунтов в год: в Петербурге большинство богатых людей никак не могло бы назвать цифру своего дохода: один год — шальные деньги, другой — сидишь с чистым убытком. Кременецкие с ласково-сочувственными улыбками слушали рассказы майора о причудах старой тетки. Выяснилось, что ей семьдесят два года: это тоже было хорошо. Был разговор о деньгах и вечером в спальне Кременецких.
— Он прекрасно понимает, что ты не обидишь Мусю, — говорила мужу Тамара Матвеевна, зная, как ему неприятно отсутствие приданого у дочери. — Рано или поздно все ей достанется, мы с собой не унесем… Все говорят, что за Заем Свободы уж всякое правительство заплатит полным рублем. И потом акции банков, ведь это все равно, что золото!