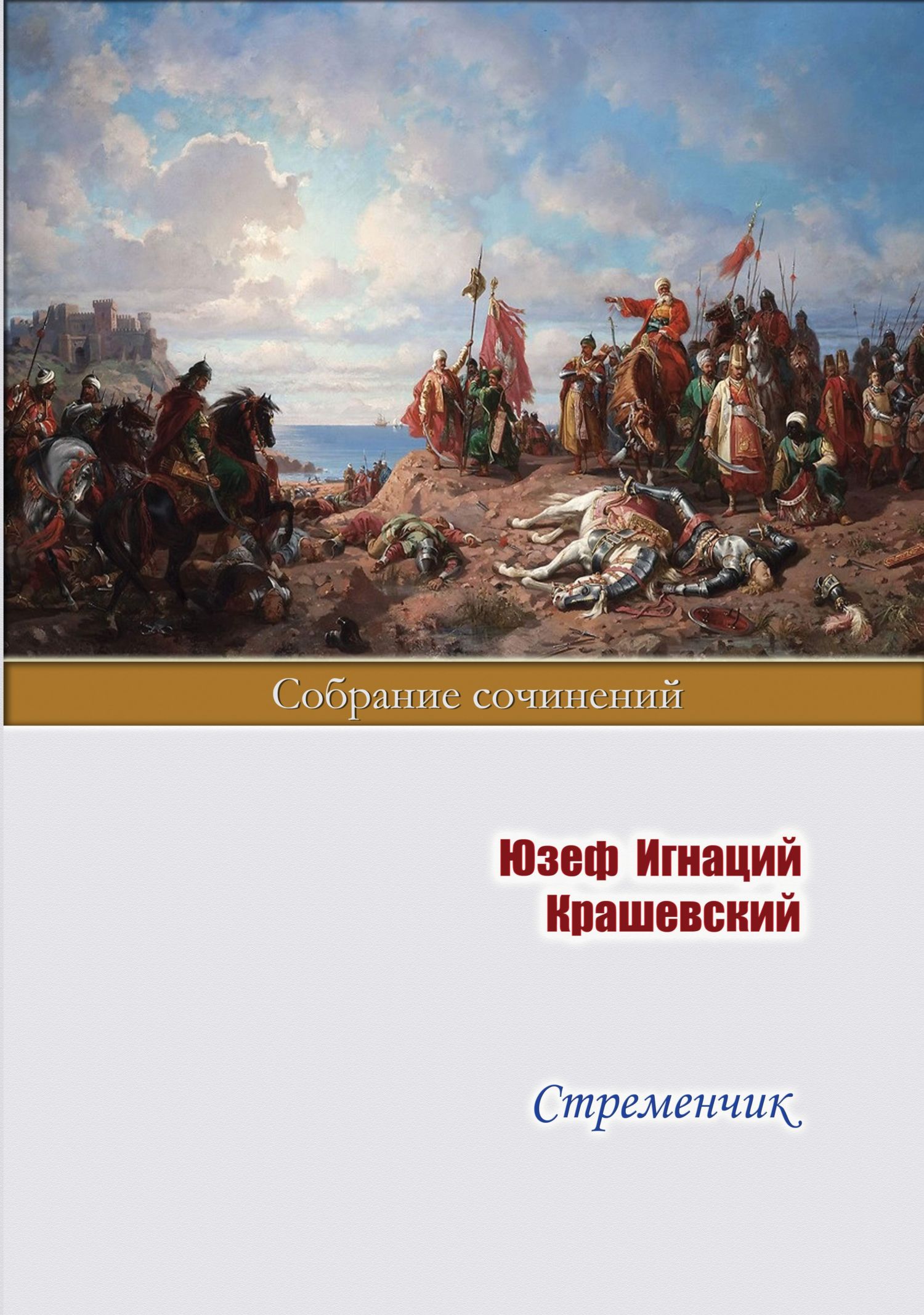и семена, а уважать должны были, что опеке бакалавра их доверила.
Также дивными запахами благоухала непроветриваемая школа, потому что в ней еда, конопля, зелень, духота, дым, впитавшийся в стены, и остатки костёльного кадила смешались вместе.
Свет попадал скупо, а, кроме лавок на вбитых в пол ножках и стола, порезанного детьми, пары полок у стен и потрескавшейся печи, других вещей не было.
Пол, пожалуй, дети из милосердия подмели.
Бакалавра, поседевшего уже на исполнении своих обязанностей, человека молчаливого, хмурого, бледного, с суровыми глазами, мягкого от природы, звали Яцком Рыбой. По правде говоря, у него за печью были розги, мокнувшие в ушате, но он чаще показывал их для устрашения, чем использовал.
Незаметный, нездорово выглядящий, сломленный неудачей всей жизни, он прибился уже к тому пределу, стоя на котором можно смотреть со спокойствием и резигнацией на отдаленные вершины, хоть не в состоянии их достигнуть.
Это была светлая душа, в которой любовь к людям и Богу не убила злая доля и мучение долгих лет. Яцек Рыба не испортился, Бога и предназначение за свою долю не упрекая.
Самым большим удовольствием для него было пробуждать молодые умы к жизни, прививать им то, что сам приобрёл, а когда было время, мог хвататься за серьёзные книги, читать их и думать над ними. Достав новую рукопись, с чем тогда бакалавру было нелегко, он садился её переписывать, порой дни и ночи проводя при лучине над Боэцием или каким-нибудь римским поэтом. Привозили тогда в Польшу эти сокровища многочисленные монахи, которых высылали в Рим и Италию для церковных дел или для учёбы.
Яцек Рыба был первым учителем Гжеся Стременчика и этим своим воспитанником гордился. Он считал его чудесным ребёнком, благословенным от Бога, обещая великую будущность.
Бакалавр, едва умывшись и прочитав молитву, приготовился идти на заутреню в костёл, когда с удивлением увидел своего любимца, живо вбегающего в каморку, с румяными щеками, запыхавшегося, перепуганного. Ничего не говоря, мальчик схватил его за руку и, взволнованный, начал её целовать.
– Что же ты такая ранняя пташка? – спросил беспокойно Рыба.
Он внимательно поглядел; в глазах у Гжеся стояли красноречивые слёзы. Бакалавр знал, что мальчик терпел от отца, его сердце сжалось, погладил его по голове.
– Ну, говори! – сказал он тихим голосом.
– А! Отец! – отозвался Стременчик, привыкший его так называть. – Я не знаю, что мне делать! Дольше уже так не пройдёт. Да будет воля Божья! Отец… отец…
Бакалавр многозначительно покачал головой, будто хотел сказать:
– Я тебя знаю! Но родителей нужно уважать.
Мальчик вздохнул.
– Оттого, что уважаю отца и гневить его не хочу, должен уйти прочь отсюда, должен.
Рыба фыркнул, отступая назад.
– Что с тобой? Ради Бога! Куда?
– Куда? Разве я знаю! – шепнул Гжесь. – В свет! В Краков! Отец хочет из нас обоих обязательно сделать солдат, а мне сам Господь Бог для чего-то иного предназначил. Вы сами мне не раз говорили, что глас Божий слушать нужно, а я чувствую его в себе. Я предпочел бы умереть, чем жить без науки, для неё в свет идти должен.
Вытерев быстро слезы, он чёрными глазами быстро поглядел на бакалавра, который стоял грустный и задумчивый.
– Я слышал от вас, что в Кракове для бедных, как я, ребят есть сострадательные люди, которые их кормят, чтобы во славу Божию учиться могли.
– Дитя! Дитя! – подхватил бакалавр. – Бог милосерден над покинутыми, и есть на свете добрые люди, но пойти в свет с саквой на спине, с деревянной миской у пояса, просить милостыню для хлеба и света, ты не знаешь, что нужно претерпеть…
Мальчик гордо встрепенулся.
– Разве я не могу терпеть? – воскликнул он. – Разве мне дом был раем? Я уже ребёнком привык к голоду и холоду.
Тут, поцеловав снова руку бакалавра, точно этой покорностью хотел его смягчить и подкупить для себя, добавил:
– Вы немного научили меня петь, могу на улицах с другими тянуть жалобные песни. За это люди дают хорошие калачи и гроши… Я также умею, по вашей милости, неплохо писать.
Рыба улыбнулся, хлопая его по плечу.
– А! Ты! Ты! – сказал он веселее. – Ничего! Ты рисуешь, не пишешь, и такой каллиграф из тебя, хоть сопливый, что и со старыми не постыдишься состязаться. Об этом нечего говорить, это правда, это правда.
Гжесь живо прервал:
– Ну, значит, чего мне опасаться? Лишь бы дотащиться до Кракова, разве это великая беда. В каждом приходе ночлег мне дадут, в каждом монастыре покормят. Много хлеба мне не нужно, ложкой еды буду сыт.
Когда он это говорил, глаза его светились.
– А отец? – спросил Рыба. – Что скажет отец, когда тебя хватится?
Гжесь опустил глаза.
– Отцу Збилут останется, – произнес он тихо. – Он его больше, чем меня, любит. Я ему только упрёк и обуза.
Избавится, забудется, легче ему будет. Слушать его не могу, значит, обиды Божьей избегну, а он по мне, – докончил он грустно, – плакать не будет.
Задумчивый бакалавр, ничего не говоря, покачал головой.
Стоял в какой-то неопределенности, не желая ни советовать, ни отговаривать. Ему было жаль любимого ребёнка, который мог здесь прозябать напрасно. Он имел убеждение, что в Кракове из него сделают что-нибудь необычное. С другой стороны, потерять этого ученика, этого любимца, которого сам собственным вдохновением так чудесно вывел из своевольного сорванца, жаль ему было.
Гжесь так красиво писал, а всем почеркам так искусно подражал! Когда пел в костёле, голос имел такой красивый, что волновал до слёз, поднимал душу к молитве.
Отпускать этого бедного ребёнка в свет, на участь, которую Рыба знал лучше всех, потому что сам её испытал в скитаниях по свету, страшно ему было. Очень жаль.
Украдкой вытер старый бакалавр рукавом глаза, но ему пришла мысль, что Бог – отец для сирот…
На лице мальчика после грусти рисовалось такое мужество, такое желание того, что готовило ему будущее, некое предчувствие успеха, что сдерживать его, кто знает, годилось ли.
– Отец! – добавил Стременчик смело. – Я думал всю ночь, молился Господу Богу, просил у Него вдохновения. Это уже решено… Не противьтесь. Иду в свет! Дайте мне благословение за отца.
И он опустился перед ним на колени, хватая за дрожащую руку старика, который, взяв его голову, начал шептать тихую молитву. Поплакали. Говорить больше было не о чем.
Звонили на заутреню, пошли вместе в костёл, но осторожный бакалавр, опасаясь, как бы старый Цедро не пришёл сюда искать сына, спрятал его на хорах и запер дверь.
Гжесь упал на колени, сложил руки и горячо молился.
Мало было