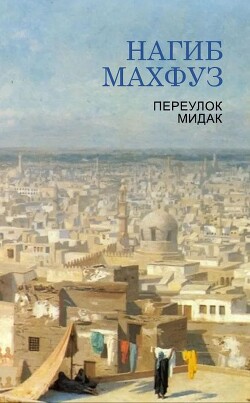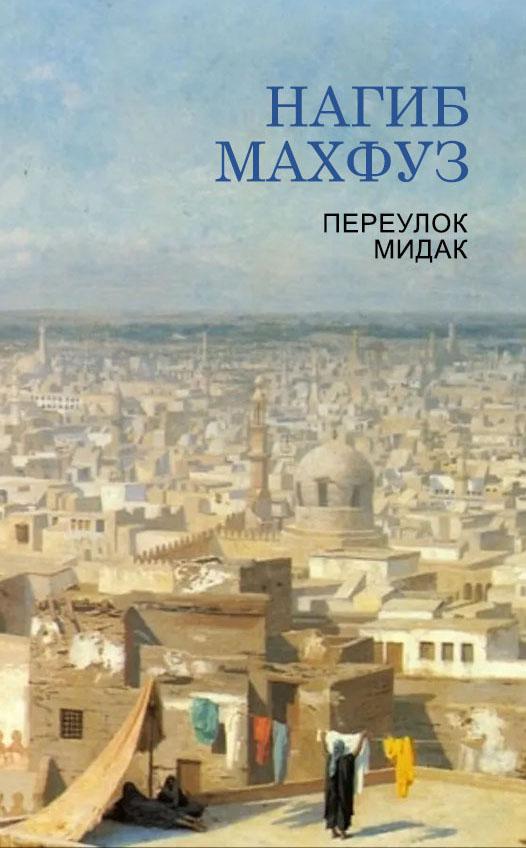Что же до поэта, то он испытал удовлетворение и даже некоторое утешение. Вставая с дивана, он пододвинул его в сторону, и мальчик-прислужник последовал за ним к выходу, неся его ребаб и книгу. Поэт пожал руку господину Ридвану Аль-Хусейни и попрощался с присутствующими, делая вид, что не замечает учителя Киршу. Затем он бросил презрительный взгляд на радио, которое рабочий уже почти закончил крепить, и подал руку мальчику, потянув его наружу. Оба они скрылись из глаз.
Жизнь снова зашевелилась в шейхе Дервише: он повернул голову в том направление, где исчезли только что те двое, и вздохнул:
— Поэт ушёл, а радио появилось. Таков обычай Аллаха в делах творения. Давным-давно это уже упоминалось в истории, что по-английски называется history, а читается х-и-с-т-о-р-и.
Прежде чем он успел выговорить, как произносится это слово, в кафе вошли дядюшка Камил и Аббас Аль-Хулв, которые успели запереть свои лавки. Сначала показался Аль-Хулв, он умылся и причесал свои волосы желтоватого оттенка. Вслед за ним последовал дядюшка Камиль, что шествовал, горделиво отрывая ноги от пола, будто паланкин. Оба поприветствовали присутствующих в кафе и уселись рядом друг с другом, потребовав себе чаю. Не успели они занять свои места, как тут же принялись болтать. Аббас Аль-Хулв сказал:
— Послушайте-ка, люди: мой друг, дядюшка Камил, пожаловался мне: он говорит, что в любой момент к нему может явиться смерть, и если он умрёт, то его даже не в чем будет хоронить…
Несколько человек саркастически заметили:
— У общины Мухаммада всё хорошо.
Другие тоже добавили:
— Наследства от продажи твоей басбусы хватит на то, чтобы похоронить всю общину целиком.
Доктор Буши засмеялся и заговорил с дядюшкой Камилом:
— Ты всё вспоминаешь о смерти? Клянусь Аллахом, ты ещё нас всех прежде похоронить успеешь собственными руками…
Невинным, словно у ребёнка голосом, дядюшка Камил сказал:
— Побойся Аллаха, я всего-навсего бедняк…
Аббас Аль-Хулв продолжил:
— Мне в тягость жалобы дядюшки Камила. А его басбуса всем нам мила, это нельзя не признать. Я же на всякий случай приобрёл для него саван, и храню его в одном недоступном месте до тех пор, пока не придёт тот неизбежный момент, от которого никому не скрыться, — тут он обратился к дядюшке Камилу. — Это секрет, который я хранил от тебя, но сейчас объявляю об этом во всеуслышание при свидетелях.
Многие из присутствующих при этих словах проявили радость, хотя и притворялись серьёзными, чтобы дать дядюшке Камилу, известному тем, что он быстро всему верил, возможность высказаться. Они похвалили Аль-Хульва за великодушие и щедрость и сказали:
— Такой поступок достоин человека, который любит тебя и делит с тобой одну квартиру и даже жизнь, будно он из той же крови и плоти, что и ты.
Даже господин Ридван Аль-Хусейни с довольным видом улыбнулся, отчего дядюшка Камил наивно и удивлённо поглядел на своего молодого друга и вымолвил:
— Это правда то, что ты говоришь сейчас, Аббас?!
За него ответил доктор Буши:
— Пусть тебя не тревожит сомнение, дядюшка Камил. Я знал то, о чём только что сказал твой друг и сам видел воочию саван. Это дорогостоящий саван, мне бы такой…
Шейх Дервиш зашевелился в третий раз и сказал:
— Счастливчик. Саван — это одежда в ином мире. Камил, получи удовольствие от этого савана прежде, чем он — от тебя. Ты будешь приятной пищей для червей. Они будут пастись в твоём рассыпающемся теле как в басбусе, разжиреют и станут похожими на лягушек. По-английски лягушка будет frog, и произносится как ф-р-о-г.
Дядюшка Камил принял всё это за чистую монету и снова стал расспрашивать Аббаса про саван — какого он типа, цвета и размера. Затем долго посылал благословения в адрес друга, улыбался и слал хвалу Аллаху. Тут все услышали голос юноши, который только что вошёл с улицы:
— Добрый вечер…
Тот, кому принадлежал этот голос, направился в сторону Ридвана Аль-Хусейни. Им был Хусейн Кирша, сын учителя Кирши, владельца кафе, юноша лет двадцати, такой же чернявый и смуглый, как и отец, грациозный, чьи тонкие черты лица указывали на ловкость, молодость и энергичность. На нём была синяя шерстяная рубашка, брюки цвета хаки, шляпа и тяжёлые сапоги. Физиономия его благостно светилась как у всех тех, кто служит в британской армии. Он обычно возвращался именно в такое время из лагеря, как они это называли. Многие из присутствующих взирали на него с восхищением и завистью. Его друг Аббас Аль-Хулв позвал его выпить кофе, однако он лишь поблагодарил и ретировался.
* * *
В переулке Мидак воцарился ночной мрак, за исключением кафе, где было светло от ламп: они вырисовывали на полу квадрат из света, рёбра которого отражались на стенах помещения. Бледные отблески света проникали сквозь ставни окон в двух домах и исчезали один за другим. Ночные посетители кафе всецело отдались игре в домино и карты, за исключением шейха Дервиша: тот погрузился в оцепенение, да дядюшки Камила: он склонил голову на грудь и задремал.
Санкар продолжал свои дела: разносил заказы и бросал в кассу фишки, а учитель Кирша тяжёлым взглядом следил за ним, ощущая вялость от растворения комочков опиума в желудке и покоряясь его приятной власти.
Прибыла орда ночи, и господин Ридван Аль-Хусейни покинул кафе и отправился домой. Через некоторое время за ним последовал и доктор Буши, который пошёл в свою квартиру, что была на первом этаже второго дома в переулке. К ним присоединились Аббас Аль-Хулв и дядюшка Камил. К полуночи кафе постепенно начало пустеть, пока не осталось всего трое: сам хозяин, мальчик-слуга и шейх Дервиш. Затем появился один из сверстников учителя Кирши и вместе они поднялись в деревянное помещение на крыше дома господина Ридвана, где сели вокруг жаровни, вновь начав ночное бдение, которое оканчивалось лишь в тот момент на рассвете, когда уже нельзя было отличить чёрную нить от белой. Санкар же мягко заговорил с шейхом Дервишем:
— Наступила полночь, шейх Дервиш…
Шейх взглянул в ту сторону, откуда до него доносился голос, и неспешна снял свои очки, потёр их о край джильбаба, затем снова нацепил, выровнял галстук на шее и встал, ставя ноги в шлёпанцы, и не проронив ни слова, покинул кафе, нарушая тишину только ударами шлёпанцев о булыжники переулка Мидак. Тишина была полной, тьма густой, а дороги и тропы — пусты и безлюдны. Он позволил ногам самим вести себя туда, куда им хотелось, ибо не было у него ни дома, ни цели. Он исчез во тьме.
* * *
В молодости шейх Дервиш был учителем в одной из вакуфных школ [2], более того, был преподавателем английского языка!.. Он был известен своим трудолюбием и энергичностью. Судьба была благосклонна к нему и сделала его главой счастливого семейства. Когда вакуфные школы перешли в ведение Министерства просвещения, его положение, впрочем, как и у многих других его коллег, не имеющих диплома о высшем образовании, изменилось, и он стал простым клерком в Министерстве вакфов, снизившись с шестого до восьмого класса государственной службы. Жалованье его также стало соответствующим. Вполне естественно, что он глубоко опечалился из-за случившегося с ним несчастья и повёл неукротимый бунт, насколько это было в его силах, то объявляя об этом напрямую, то борясь скрытно, будучи вынужденным и сломленным обстоятельствами. Он прилагал все старания, подавал ходатайства, прося заступничества у вышестоящих лиц, жаловался на нужду и обременённость многочисленным потомством, но безрезультатно. Наконец он предался отчаянию, когда нервы его начали сдавать. В министерстве он прослыл служащим, который был вечно всем недоволен, жалобщиком, напористым, упрямым, вспыльчивым, в чьей жизни и дня не проходило без распрей и столкновений, к тому же слишком самоуверенным и ведущим себя вызывающе по отношению к другим. Если у него возникал с кем-то конфликт — а такое случалось нередко — в нём возрастало высокомерие, и к своему противнику он обращался по-английски, а если последний возражал против такого беспричинного использования иностранного языка, он с огромным презрением кричал ему: «Сначала выучись, потом уже заговаривай со мной!» Вести о его склочничестве и упрямстве наконец долетели сначала до руководства школы, однако оно было снисходительным, жалея и симпатизируя ему, с одной стороны, и боясь его гнева, с другой. Поэтому жизнь его продолжалась без серьёзных последствий, за исключением, разве что нескольких предупреждений и вычетов из жалованья за день-два. Но по прошествии времени он становился всё более заносчивым, пока однажды не додумался дать свободу своим корыстным речам на английском языке. В оправдание этому он сказал, что является артистичным служащим, а вовсе не обычным, как все остальные клерки. Он перестал работать, что заставило его начальника повести себя с ним решительно и сурово. Однако судьба действовала быстрее начальства: однажды учитель потребовал аудиенции у замминистра. Дервиш-эфенди — как его стали называть в то время — вошёл в кабинет замминистра неспеша и с достоинством, поприветствовав его как равного, и уверенно обратился к нему: