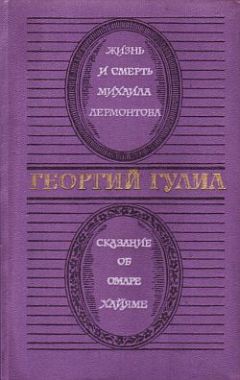Разве всего этого не понимал главный визирь? Нет, он отлично все знал и пытался найти некие пути, по которым следует направить государственное правление во избежание крушения, во избежание роста насилия и взаимного истребления. Низам ал-Мулк видел далеко, но понимал, что поворачивать в какую-либо сторону налаженную жизнь государства не так-то просто. Конечно, он все понимал. А если бы не так, разве процветала бы дорогостоящая обсерватория в Исфахане или багдадская академия? И тем не менее, как бы ни был силен главный визирь, над ним простиралась власть его величества.
Хасан Саббах был худощав. Роста выше среднего. Из-под короткой черной бородки проглядывал острый кадык. На загорелом и обветренном лице – узкие щелочки глаз, а сами глаза – неопределенного водянистого цвета. Говорил он ровным, хрипловатым голосом. Почти никогда не повышал его, но было что-то жуткое, сковывающее в этом голосе. Так мог разговаривать человек, который все взвесил и все решил. А главное, решился на все.
Было у него две жены. Но никто не видел в глаза их, и никто не знал, где они живут. Были и дети. Их тоже никто не знал. И в этой таинственности было тоже что-то угрожающее.
Хасан Саббах, как всякий одержимый, имел свои привычки, если угодно, были у него свои причуды. Вот одна из них: все дела он решал и вершил ночью, а днем отдыхал под неусыпным надзором преданной ему охраны. И эта его особенность делала вождя асассинов человеком особого склада и особой судьбы.
С высоты «Орлиного гнезда» Хасану Саббаху казалось, что он видит все. Верные люди приносили ему вести из далекого Самарканда, Бухары, Балха, из жаркого Шираза и ненавистного Исфахана. На основании этих сообщений Саббах пришел к окончательному выводу о том, что Малик-шах и его главный визирь несколько поуспокоились, ослабили бдительность, ибо страна вроде бы умиротворена, народ оправился после многочисленных и самых различных потрясений, войны давно нет. Кому же придет в голову поднимать бунт против Малик-шаха, кто пойдет за таким бунтарем?
На этот, казалось бы, не требующий особого объяснения вопрос дал ответ сам Хасан Саббах. В один прекрасный день собрал он своих близких сообщников. Шли они разными дорогами на север страны, встречались в горах в условленных местах и оттуда направлялись в крепость. После должной и тщательной проверки их проводили в большой зал, устланный коврами.
Хасан Саббах встречал своих сообщников молча, легким поклоном.
Когда все собрались и расселись по местам, глава асассинов сказал так:
– Вчера я наблюдал за одной птичкой. Сидела она на ветке и пела. Ветка была невысоко – рукой достать. Она пела от всей души. Не замечая меня. Не обращая на меня никакого внимания. Это продолжалось долго… Сегодня моросит дождь, тучи собрались с соседних гор и грозят ливнем. А вчера стояла теплая погода. Пахло цветами. Поэтому птичка особенно усердствовала – ей было очень и очень хорошо…
Хасан Саббах умолк, подождал, пока всех обнесут шербетом, кусками мяса и хлеба. А потом продолжал:
– Я долго слушал это пение, и мне оно стало надоедать. Все имеет свои пределы: даже красота может опротиветь. И я собирался уже уйти, как пение оборвалось. Я подошел к птичке поближе. И что же я увидел?
Он оглядел собрание своих приверженцев и сказал про себя: «Это мои люди. На них можно положиться». И остановил взгляд на одном из них, по имени Зейд эбнэ Хашим. Таком молодом, бледном и худом асассине с горящими глазами. Зейд не притрагивался к еде, пил только шербет и думал о чем-то своем. «Не этот ли?» – спросил себя Хасан Саббах и закончил свою речь следующим образом:
– И что же я увидел, подойдя поближе к ветке? Спящую птичку. Спящую, усталую от своей песни. Да, да, это было так! И тогда я сказал и себе, и мысленно обращаясь к вам: «Не так ли спят сейчас во дворце исфаханском?» Сказал и, протянув руку, без труда поймал птичку. Она встрепенулась, но уже было поздно.
Хасан Саббах поднял чашу с шербетом и остудил себя напитком. Уже ни на кого не смотрел. И все поняли, что он сказал то, что хотел сказать. И все поняли то, что услышали.
Салех эбнэ Каги, человек преклонного возраста, ремесленник, наживший горб на бесчисленных медных чеканках, взял первое слово. Это был исфаханец, жил под боком у Малик-шаха, и его светильники приобретались управителем дворца, ибо это были светильники тонкой работы.
– В твоей притче, – сказал он, обращаясь к своему вождю, – большая правда. Птичка задремала от радости, от переполнявшей ее радости. Тому способствовали погожий день и аромат цветов. И она уснула, потеряв ощущение грозившей ей опасности. А она, несомненно, видела тебя. И наверняка опасалась твоей руки. И тем не менее попалась. – Салех эбнэ Каги говорил высоким, немного скрипучим голосом, но говорил продуманно. – Можно твою притчу полностью перенести и на людей. Но мы должны понимать разницу, которая есть между птичкой и Малик-шахом.
– Он негодяй! – прервал исфаханца хмурый вождь асассинов.
– Это дело другое, – сказал Салех эбнэ Каги, у которого была своя голова. – Негодяй отличается от птички еще больше, чем от обыкновенного человека. Этого не следует забывать, когда имеешь дело с Малик-шахом. Птичек множество, а султан один. Тут не должно быть промаха.
– Вот это верно! – воскликнул Хасан Саббах.
Саадет из Балха недолго раздумывал над тем, какое высказать соображение. Намек Хасана Саббаха не допускал двух толкований. А исфаханец осторожно призывал к осмотрительности. Саадет был одних лет с Салехом эбнэ Каги – ему тоже под пятьдесят. Однако характер иной. Исфаханец терпелив и склонен к рассуждениям, а Саадет больше думает руками или ногами. Караванная дорога, длинная и жаркая, утомила его, но горячность его не уменьшилась. Душа его пылала, как всегда, и он, как всегда, жаждал действия.
Довод его был крайне прост: не слишком ли выжидаем, не слишком ли долготерпеливы? Это может навести на мысль о том, что скорее уснут асассины, нежели эти господа в исфаханском дворце. Это же очень просто: нельзя откладывать решительные действия до того дня, когда асассинов призовут во дворец, чтобы навести там свои порядки. Этого никогда не будет!
Хасан Саббах непрестанно кивал головой, он был согласен с каждым словом Саадета из Балха. Верно, бездействующий кинжал в конце концов ржавеет.
– Надо учесть, – сказал исфаханский чеканщик, – что неудача в нашем деле равносильна смерти. Неудача, неверный шаг надолго отобьют охоту к борьбе у многих, даже у самых горячих голов.
– В этом есть своя правда, – согласился Хасан Саббах. – Из этого следует только один вывод: надо бить без промаха!
– Это совершенно справедливо, когда речь идет об одном человеке, – возразил исфаханец, – но если подымаешь руку на все государство?
– Что же с того! – сказал Хасан Саббах. – Разницы тут никакой: промаха быть не должно!
Исфаханец пожал плечами, сказал, что послушает других. А другие не торопились высказывать свое мнение. Это не такое дело, чтобы всем наперегонки нестись. Молчали, посапывали, почесывали бороды. И тогда, безмолвно поощряемый Хасаном Саббахом, слово взял молодой Зейд эбнэ Хашим. Он вытянул сухую руку с большим кулаком и, словно бы кому-то угрожая, начал твердо, без обиняков:
– Я понимаю так: мы явились сюда неспроста. Мы званы не случайно. Смелость – половина успеха. Без нее только дремать пристало. Без нее и шагу не сделаешь. Другая половина дела – это дерзость. Без нее тоже ничего не поделаешь. Власть достается дерзким. Вот если тебе уготован престол отцом или еще кем-либо. Если хочешь взять силой – надо дерзать. Кто хочет послужить своей вере и сокрушить врагов, тот должен сказать себе: я смел и я дерзаю!
Этот Зейд потрясал обоими кулаками. Вокруг сидели люди и постарше его, но он не обращал на это никакого внимания. Выражал свое мнение предельно ясно. Он призывал к дерзости. А как это понимать?
– Очень просто, – пояснил Зейд. – Мы сговариваемся и идем напролом. Самое главное – выигрыш времени, неимоверная дерзость и смелость.
Многие смотрели на него с удивлением. Какой такой Зейд, и что он, собственно, сотворил на своем веку? Пожалуй, нет в этом зале человека, который знал бы его по делам. Разве что сам Хасан Саббах.
Тут послышались разные голоса: одни соглашались с исфаханским чеканщиком, другие держали сторону человека из Балха. Но никто не сказал прямо: Зейд прав! Значит, молодой человек остался в одиночестве? Нет, ничего подобного! Ему была обеспечена защита.
– Принеси нам вина, – обратился Хасан Саббах к человеку с кривой саблей на боку. Этот человек стоял в дверях – он слушал и смотрел. На его место заступил другой, такой же головорез. Вскоре появилось вино. Оно было в кувшинах, холодное и терпкое. Одни пили вино, другие предпочитали шербет. Принесли горячие куски жареной дичи на вертелах и положили на большое блюдо – в три локтя диаметром. И каждый, кто хотел, брал себе кусок величиной с добрый кулак.