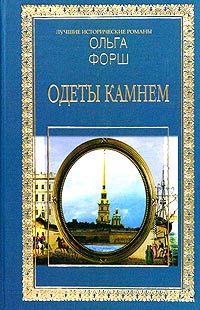Едва я увидел Ларису, я в нее влюбился. И если у нее был роман с Михаилом, то будет и со мной. Если с Михаилом были одни разговоры и лунная ночь, то же будет и со мной.
Какое взаимоотношение между этими условиями? Спросят — не умею объяснить, но угадано было верно.
Узнать окончательно и самое тайное про человека можно, только сойдясь в той же мере близости, в какой бывал он с одним из выбранных им себе дополнений. Это одинаково по отношению к мужчинам и к женщинам.
Через Ларису мне откроется, почему от личной любви бежал Михаил. На каком горне судьбы ковалась его революционная воля? Ведь из одних глубоко личных причин куются даже достоинства и недостатки, ставшие достоянием человечества…
Но мне было не до философий. В краткосрочный отпуск, с лапидарностью древних времен, надлежало мне: прийти, увидеть, победить.
И, хотя Лариса Полынова была молодая вдова с репутацией доступной ялтинской дамы, я был немало смущен и далеко в себе не уверен. За городом, у подножия гор, вблизи старинной крепости генуэзцев, у нее была своя дачка. Лариса была богата и, не считаясь с общественным мнением, жила по тем временам с поражавшей всех независимостью. Спервоначала я принял ее за прислугу, когда, подъехав верхом к ее даче, указанной мне первым встречным, я спрыгнул с коня и, не зная, где его привязать, обратился с вопросом к девушке, обвязанной по-украински платочком, в вышитой белой рубахе и темной юбке, возившейся с лейкой у гряд:
— Куда, милая, деть мне коня и где ваша барыня, госпожа Полынова?
— Коня привяжите к забору, здесь воров нет, а барыня я, точно, себе сама и есть.
И она засмеялась, освещая улыбкой лицо, такое необычайное, что я не понял, красиво оно или нет.
— Я — Лариса Полынова, войдите.
Дом был непохож на обычную дачную игрушку: выстроенный из красивого кирпича в стиле английского коттеджа, он был прост и удобен. В библиотечных шкафах много книг.
Горничная, подтянутая на петербургский манер, принесла мне кофе. Хозяйка, ничуть не меняя костюма, только вымыла руки, которые были в земле, вошла вслед за мной и спросила меня с прелестной естественностью:
— Вы ко мне от кого-нибудь с поручением?
— Вы угадали: я привез вам письмо.
Я вдруг почувствовал самолюбивое раздражение, которое испытывает мужчина от совершенной натуральности красивой женщины, которая позволяет себе в его присутствии продолжать свою жизнь, не вводя в нее ни малейшего волнения, которое — бессознательно считает он — должно бы было в ней вызвать его появление… Она же проходит сквозь вас, как сквозь пустое пространство.
Лариса смотрела на меня спокойно своими серыми, по-калмыцки приподнятыми глазами. Черты лица были некрупны, приятны, кожа ослепительно бела, и темно-рыжие волосы, с которых снят был платок, словно пронизанные солнцем, задержали в себе его блеск. Они, как у девушки, ниспадали до колен пышно густой косой. Поражала она и фигурой, подобной Тициановой Магдалине, крупной, здоровой, с выражением свободы и покоя в каждом движении.
И вдруг мне стало приятно разбить этот покой, сказав ей прямо в упор, подавая письмо:
— Вот вам от покойной матушки Михаила Бейдемана с мольбой взять на себя хлопотать об ее несчастном сыне. Он четвертый год как томится в каземате.
Лариса не изменилась в лице и продолжала с тем же спокойствием ждать, что я скажу ей еще.
Я подумал, что она не поняла моей речи, и воскликнул:
— Письмо от матери Бейдемана! Вы не можете не помнить ее сына, ведь вы же любили его…
У нее дрогнули брови, медлительно она покраснела, взяла письмо из моих рук, стала прямая и важная, позвонила. Вошла петербургская горничная, приносившая мне кофе, к которому я не поспел и притронуться.
— Маша, вы отвяжете коня от забора и покажете поручику, как короче проехать в город.
И, не дав мне выговорить что-либо, чуть склонив голову, ушла с письмом в свою комнату. Я же глупо пошел вслед за горничной.
Я бродил по горам, не находя себе места. Все мной пережитое: безнадежная любовь к Вере, влечение дружбы и ненависть к Михаилу казались мне занимательной, но уже прочитанной книгой. Впервые сейчас я понял, что молод, что передо мной — вся жизнь неизведанных собственных радостей и своих страданий. Для чего, в самом деле, как отжившему и бесстрастному старику, мне жить не своей, а чужой судьбой?
Мое обещание матери Михаила было исполнено. Я письмо передал? Но женщина, интересная мне доселе лишь как разгадка чуждой мне психологии друга, внезапно стала завлекательной сама по себе. И вот бестактным напоминанием о бывшей любви я сразу испортил отношения с ней и был ею изгнан из дома. Впрочем, не этим ли меня раздражившим поступком воспламенила она все сложные взрывчатые вещества, из которых образуется страсть?
Все мои прогулки, откуда бы я их ни начал с утра, приводили меня к одному и тому же месту — развалинам Генуэзской крепости. Дня два окна в доме были закрыты, ее не было. Но вот все окна открылись, на рояле играли Шопена. Играли прескверно: с задержкой, с шумливой страстью. Я, помню, обрадовался, подумав: «Если это она, я тотчас ее разлюблю и буду снова свободен». Но играла не она. Ее, как и первый раз, я опять не узнал, хотя, когда она мне сказала, смеясь: «Здравствуйте!» — оказалось, что стояла она совсем близко на камнях. На ней были татарские шаровары и куртка, в руке альпийская палка и кожаный саквояж. Она, как будто между нами не вышло ничего неприятного, смотрела приветливо на меня.
— Куда вы идете? — осмелился я.
— Я иду к старому чабану, моему приятелю, несу ему разного зелья. У нас уговор: я хожу к нему каждое лето.
Я не знаю, как мог ей сказать:
— Возьмите меня с собой!
Она чуть подумала, медленно обмерила меня взглядом и сказала:
— Ну, хорошо, с одним условием: вы будете всю дорогу молчать. Я терпеть не могу с болтовней ходить в горы.
— Я стану глухонемым, — обещался я.
— Довольно только немым до козьей сторожки, там вы можете говорить.
Я взял у нее из рук чемоданчик, и мы пошли.
Сначала тропинка была некрутая. Справа синее море, слева цеплялся за ноги кривой кизил, цвели ломонос и шиповник… Серые скалы были навалены друг на друга, будто с силой брошены великанами из-за главного хребта огромной крутой горы, похожей на верблюда, поджавшего ноги. Растения встречались с душистыми листьями, и серебряной пылью подернуты были цветы из семьи эдельвейсов. Гора, похожая на верблюда, поросла небольшими колченогими соснами.
И сейчас вижу я, как странно они закрутились много раз вокруг своих же стволов, с облупленной вовсе корой, совсем серо-лиловые.
Иные, горбылями изогнув всю середину, будто червь-землемер, вершиной уперлись в камни, разметывая по скалам и шишки и темные ветви. Меня эти перекрученные жилистые сосны наполнили романтической грезой, и, памятуя Дантову песню, которую, по настоянию тетушки, графини Кушиной, я хорошо изучил и очень любил, как дающую воображению пищу, я, забыв обещание немоты, вдруг воскликнул, указывая Ларисе на горбыли сосны:
— Это — непокорные калеки адского круга, это — закрепленные в дереве души самоубийц!
— Ну вот, начинаете, — с непритворной досадой, как просыпаясь от сладкого сна, сказала Лариса. — Бросьте книжки из головы, да и мысли впридачу. Вы здесь ничего не поймете, если будете думать… Или хоть мне не мешайте.
— Простите, я не буду, — сказал я, — я люблю сам природу…
Я знал, что сказал глупо, но мне было все равно. Я вдруг перестал чувствовать близко Ларису. Пропала острота ее существа. Мне теперь только казалось, что я ее знаю бесконечно давно, что мы родные, что мы возвращаемся вместе, как дети, на родину.
Мы шли без конца. Под самым верхним хребтом горы, как замки зубцами своих бойниц, вырезывали легкое синее небо. Между бойницами окаменелые залегли навеки какие-то чудные ящеры и драконы. С самого верха скакали вниз по камням, будто мальчишки, разогнавшись в лошадки, веселые буйные ручейки. Было и освежающе и знойно. И чудилось, когда вошли мы в глубокое изумрудно-сумеречное ущелье, что это — вход в жизненную грудь земли. Мы присели на скалу, и, охваченный духовитостью трав, я сказал:
— О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать и не чувствовать…
— Это на вас действует козий бог, — сказала Лариса, — тут всё его… Но молчите, молчите.
Лариса сидела тяжелая. Лицо ее со странно застывшей улыбкой было как лица архаических статуй, чьи изображения меня так особенно волновали в музее. Сама богиня земли была предо мной, и от нее шла ко мне сила, текущая, ровная, как полуденный зной.
— Идем выше, — сказала она, встала и опять пошла безмолвно вперед. Я за ней.
Куда мы сейчас забрались, казалось, еще не ступала нога человека. Великолепие цветущей травы, диких ирисов и гвоздики не было примято и дыханием ветерка. Солнце слабело. Все быстрей шел таинственный обмен красок между небом и соснами. Густые сосны жадно вбирали в себя синий покров и одевались им, как венчальной фатой.