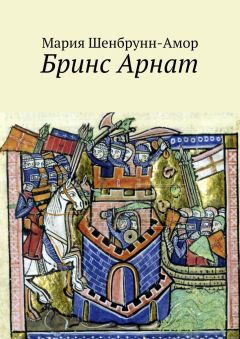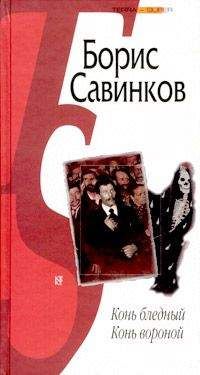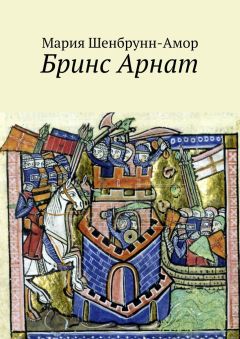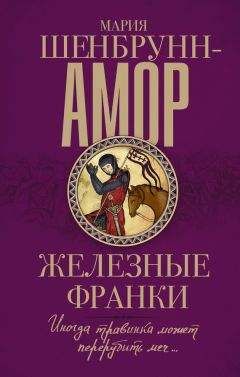Ссора князя с патриархом была неминуема, слишком долго Эмери единолично решал все в Антиохии, слишком богатым был пастырь этого вечно нуждающегося княжества. Иерей не только отказался венчать княгиню с Шатильоном, он открыто противился этому браку, уговаривал, молил свою духовную дочь не делать неимущего искателя приключений без связей и влияния князем Антиохийским.
Да только легче было бы уговорить водопад не срываться с горы.
После свадьбы Шатильон повел себя так, словно Антиохия принадлежала ему с рождения. На всех грамотах и прошениях его крупная, размашистая, жирная подпись погребала под собой тонкие, изящные буковки княгини. Констанция с радостью передала Рейнальду всю власть, но патриарх, привыкший за четыре года управлять самолично, не желал уступать кормило вчерашнему наемнику. А Шатильон не выносил пренебрежения и в ответ на него впадал в бешенство, становился мстительным и жестоким. Может, прожгли в душе Рено черную дыру незаглаженные обиды и презрение вышестоящих баронов, из которых многие ему и в подметки не годились; может, слишком долго для его достоинств и гордости служил он простым рыцарем в ночном дозоре, но, заняв антиохийский трон, Шатильон не потерпел заносчивого ослушания патриарха.
Эмери замолк, видно потерял сознание от жары, жажды, боли и сводящего с ума зуда от копошащихся в ранах слепней и мух. Но вопли продолжали звучать в голове Констанции. Все время поношения и пытки священнослужителя она стояла на онемевших коленях, не стирая стекающего со лба пота, вцепившись в наперсный крест, словно утопающий за доску, и молилась за страдальца и за его истязателя:
– Спаси меня, Боже, ибо объяли меня воды до души моей… Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать…
Вновь тишину пронзил леденящий крик, она покрылась испариной.
– Иисус Христос, Сын Божий, сам познавший муку, поддержи несчастного страдальца! …Бездна заключила меня… О, Рейнальд, Рейнальд! Что будет с тобой, кто после этого оправдает тебя на Страшном Суде?
Переплет окна на фоне слепящего неба казался черным крестом с телом распятого на нем. Сдайся, сдайся, упрямый старик, не воображай себя Иовом и Иоанном Крестителем! Нет больше мочи терпеть вместе с тобой! Но иерей все орал, хрипел, стонал, терял сознание, а требованиям князя не уступал. Не потому, конечно, что сокровища патриархата были ему дороже жизни, а потому что ненависть к Шатильону и собственная гордость побеждали боль. Чем дольше жестоковыйный прелат принимал смертельную муку, тем больше князь Антиохии уподоблялся Ироду Антиппе и Навуходоносору.
Уши опять заложил отчаянный, срывающийся голос иерея, дама Филомена вскочила, с колен с глухим стуком упало на ковер шитье и покатились мотки нитей, но Констанция приказала:
– Останьтесь, мадам.
– Как вы можете, ваша светлость! Это же… это же наш Эмери! – дряблые щеки почтенной дамы тряслись, глаза сверкали мученической готовностью постоять за патриарха и защитить его от безжалостного преследователя.
Не хватало, чтобы дряхлая старушка, из которой песок сыпется и неведомо в чем душа держится, помчалась князю прекословить. И Констанция не пойдет. С ней-то Шатильон всегда оставался учтив, он только взглянет на супругу невидящим от ярости взором и отдаст какое-нибудь новое, еще более страшное распоряжение касательно жестоковыйного патриарха. Когда посланник привез из Константинополя отказ василевса оплатить поход антиохийцев на Киликию, Рено заставил незадачливого грека съесть привезенную грамоту. Сцепив на груди трясущиеся от ярости руки, закусив до крови губу, захлебываясь собственным клокочущим дыханием, смотрел, как посол, давясь и содрогаясь, дожевал весь пергамент и проглотил императорскую печать из чистого золота и свисающие с нее шелковые шнурки. От неминуемой смерти беднягу спасло только рвотное средство Ибрагима. Нет, бесполезное заступничество Констанции сгодилось бы лишь для очистки собственной совести. А этого она себе не позволит. Она будет страдать вместе с патриархом и нести тяжесть свершенного греха вместе с Рейнальдом, потому что во всем виновата она. Это Констанция поведала супругу, что его высокопреосвященство откупился от Нуреддина изрядной долей патриарших сокровищ, и, когда Шатильону потребовались деньги для снаряжения карательного похода против византийского Кипра, он вспомнил о церковной казне. А горделивый патриарх, уверенный в своей ненаказуемости, наотрез отказал князю.
Теперь уже мамушка попыталась незаметно шмыгнуть в дверь, но Констанция успела ухватить край ее юбки:
– Татик-джан, это может остановить только сам Эмери!
– От князя и от тебя, я смотрю, тут ничего не зависит…
– Князь уже так далеко зашел, что без урона для своей чести не может сдаться. А духовному лицу смириться никогда не зазорно. Князь от патриарха только денег добивается!
– Денег и повиновения!
Мамушка сразу оказалась в стане врагов Шатильона: вслух заявляла, что Рено в подметки Пуатье не годится и даже взгляда ее анушикс не достоин. И уж конечно, старая армянка не простила новому правителю удачного похода против армянской Киликии. Армянский царь Торос II Рубенид еще лет десять назад бежал из ромейского плена, поначалу скрывался у своего кузена Жослена II де Куртене в графстве Эдесском, а когда Византия увязла в борьбе с анатолийскими сельджуками, исхитрился захватить у империи немало киликийских земель. Поэтому в обмен на признание Шатильона князем Антиохии автократор потребовал от него вернуть Византии отторгнутые Торосом владения. И напрасно Констанция напоминала татик, что это василевс заставил князя воевать с армянами.
– Ишь ты, василевс заставил! Из чужой-то кожи широкие ремни легко резать! А патриарха Антиохии обмазать медом и бросить мухам на съедение ему тоже василевс повелел?!
Грануш, ничего не поделаешь, всю жизнь, как щегол на серебряной цепочке: любовь держит няньку подле Констанции с ее выводком, но старушка не в силах перестать болеть душой за своих армян и втихаря молиться за них. Да только понапрасну: везение Шатильона равнялось его дерзости. С помощью тамплиеров Рейнальд отвоевал у армян Александретту, а затем потребовал у Константинополя возмещения понесенных им расходов. Ромейский самодержец надменно отказал, требуя завершить покорение Киликии. Как и все остальные, Мануил не представлял себе, сколь безудержен и неистов Рейнальд.
Получив отказ, князь не удовольствовался унижением византийского посла. Он тут же передал завоеванную Александретту тамплиерам, которые за это восстановили крепость Гастон, запирающую вход в Сирию. Сам же Шатильон примирился с Торосом, и теперь все сообща задумали карательный поход против Византии. Для этого требовалось золото, и Рейнальд уже знал, где его взять.
Однако патриарх Эмери Лиможский, смиренный клирик, миролюбивый книжник, Христов служитель, свет учености Земли Воплощения, любитель мудрости древних, прославившийся своей любовью к правоверным христианам и милосердием к иноверцам, отказал воинственному рыцарю наотрез. Рено, не убоявшийся властителя Ромейской империи, не поколебался и патриарха пыткой принудить к щедрости. А тот теперь упирался, истязая себя и всех вокруг своими муками.
– Это князь европейским обычаям следует, у них в Европе принято сурово наказывать, – длинный нос мадам де Камбер шевелился, как у жующей кусок сыра мыши. – Там преступников четвертуют и на кострах сжигают, а насильников на мостах за мошонку подвешивают.
Дама Доротея явно подобные расправы одобряла, но мамушка возмущенно всплеснула руками:
– Так то преступников и насильников, а Эмери Лиможский, хоть и латинский патриарх, а все ж подобной казни не заслужил!
Констанция закрыла лицо ладонями, пытаясь прогнать возникающие перед глазами кровавые, залитые жгучим медом язвы обнаженного старика и вьющихся над ним мух, оводов и ос:
– Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего…
Рейнальд был отважным и хитроумным военачальником, верным предводителем антиохийских воинов, выказывал почтение супруге и проявлял отцовскую ласку их дочери Агнессе, непорочному ягненку. Но после двух лет супружества Констанция больше всего на свете боялась непредвиденных, непонятных, пугающих деяний мужа. Ничего плохого Шатильон ей не учинял, слова грубого не говорил, даже голоса не повышал, однако стоило ему взметнуть брови, уставить в нее пронзительный, недоуменный, недовольный взор – и у нее холодело под ложечкой.
Крики замолкли, внезапная тишина оглушила. Констанция привстала. Скончался упрямый прелат или уступил наконец? Тишина звенела в ушах, терзала неизвестностью пуще воплей страдальца.
– Вивьен, узнайте, что там происходит.