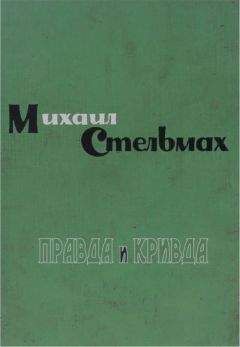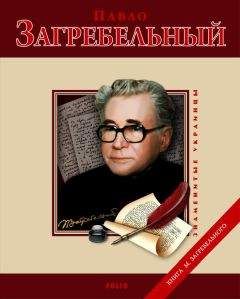В августе король наконец заключил брачный контракт с Францией и отправил в Париж своих брачных послов - воеводу познанского Кшиштофа Опалинского и бискупа варминского, канцлера умершей королевы Вацлава Лещинского. В Москве именно в это время умер, стоя на молитве в церкви, царь Михаил Федорович и на престол сел его четырнадцатилетний сын Алексей Михайлович. Мог ли знать молодой царевич, что через девять лет суждено ему скрепить своей печатью царской величайший договор в истории моего народа?
Да кто же мог тогда об этом помышлять?
В дни, когда топтали мы цветники в панских садах под Варшавой и рассиживались в королевских павильонах в Фонтенбло, мы хорошо сознавали, что будет литься кровь братьев наших, смывая грехи не столько свои, сколько чужие, и какими далекими мы были тогда от пышных слов о том, чтобы слава казацкая распустилась всюду, как пава перьями, чтобы зацвела, как мальва летом.
А дома, как и раньше, повсюду были кривды и притеснения. Грабительство было такое, что казаки даже гетману Конецпольскому, страшнейшему своему врагу, подавали жалобы на чигиринского шляхетского полковника Закревского за великие кривды и несправедливости, которые терпели от него, несмотря на свое рыцарское положение. Закревского устранили, вместо него поставили, переведя из Переяслава, моего кума Кричевского, человека доброго и справедливого, но в это же время вместо благосклонного к казакам королевского комиссара Зацивилковского прислали Шемберка, который купил себе у короля комиссарство за тридцать тысяч злотых, а теперь всякими страшными поборами хотел вернуть себе с лихвой эти деньги.
Продавались уряды сотничества, есаульства, атаманства, в реестры старшина не вписывала половины казаков, а плату королевскую получала на всех и делилась между собой.
Богатство и власть - эти величайшие враги человеческой природы неожиданно стали доступными никчемным людям, неуклюжим, бездарным, смешным, медлительным, но одновременно нетерпеливым и жадным, потому что вокруг становилось все больше несправедливости и спеси.
И я должен был быть среди этих людей, более того: прикидываться своим, вступать с ними в кумовство, выражать почтение и толстошеему есаулу генеральному Барабашу, и коварному есаулу войсковому Ильяшу Караимовичу, и чигиринскому есаулу Роману Пеште, тому самому, который лишился сознания, увидев в шатре душителя нашей вольности Николая Потоцкого, и, наверное, терял сознание каждый раз, когда видел шляхетский сапог.
Терпеливость моя превосходила все известное. Я похож был на отшельников, которые твердо и безумно верят, что в своих пещерах рано или поздно узрят бога.
Страдать можно тяжелее не от самого зла, а от мыслей об этом зле. Может, я бессознательно спасался от чрезмерного бремени сих мыслей, устремляясь душой к красоте, хотя и знал уже к тому времени, что красоте предшествует либо тьма людской доли, либо безбрежные потоки крови.
Я ничего не делал из ненависти, а только из чести. Подобно Одиссею, я наслаждался пением сирен, но не приставал к их берегу. Может, потому, что уже имел в своей душе сирену, и берег, и красоту?
Зима выпала лютая, с большими снегами, которые засыпали Субботов так, что нечего было и думать о том, чтобы добраться до Чигирина, а дальше - даже страшно подумать. В моих покоях днем и ночью топили дубовыми дровами грубки, дрова приносил со двора сын Тимко, топить же печки вызвалась Матронка, и мне милым было это ее желание, только Тимко выражал свое неудовольствие, со стуком и треском швыряя тяжелые поленья к ногам девушки, а я не смел на него прикрикнуть, потому что чувствовал себя в душе виновным и знал, что я должен не гневаться на своих близких, а всячески очищаться в раскаянии, хотя и не умел этого делать.
Я сидел за столом то с книгой, то с бандурой, то в задумчивости и печали, не зная, куда себя девать, а то брал восьмиугольную смарагдовую тафлю, давний подарок моего стамбульского товарища Бекташа, ставил этот смарагд перед глазами, всматривался в него, рассматривал мир и его прошлое.
А тем временем легонькая девочка, присев возле печки, тоненькими ручонками бросала в огонь тяжелые поленья, огонь жадно гоготал и хохотал, из дикой стихии пламени вырывалось что-то словно бы живое: загубленные души, утомленные голоса, непровозглашенные речи, будто клич мужества и гордости, жажда деяний и добра, нестареющей страсти, величия и красы. Что есть краса и что есть истина, кроме этой девушки, ее привлекательности и нежности?
Вижу ее нежную шею в широком вырезе вышитой (может, Ганной!) сорочки, высокую бровь над серым глазом, что мог бы просветить не только те миры, которые я тщетно пытался рассмотреть сквозь свой смарагд, а даже тяжелый непрозрачный камень и мою старую изболевшуюся душу.
Ах, если бы мир стал таким прозрачным, чтобы сквозь него можно было увидеть грядущее и тот берег, где тебя ждет счастье. Вместо этого клубы туч обступают все плотнее и плотнее, пелена темноты, отчаяние и немощь гнетут тебя. Внезапно я осознаю, что уже обеими ногами стою на пороге старости, а Матронка только еще входит в жизнь, только еще присматривается к ней своими чистыми глазами из-под высоких бровей, и, наверное, вельми удивляется, не видя ничего, кроме грузного старого человека с обвисшими усами, похожего на мокрого волка, хмурого, порой неистового в своем непостижимом гневе, и в своих капризах, и в своих бесконечных странствиях.
И тогда нежданно и негаданно для самого себя я рассказываю Матронке, как молодым, когда мне было столько лет, сколько ей ныне (а это ведь так мало!), был лунатиком. И не в коллегии Львовской, потому что там отцы-наставники своими молитвами отпугивали дьяволов, а уже потом, когда ходил с отцом среди охочих казаков молодых. Не брала меня усталость после многодневных переходов, и, когда все засыпали мертвецким сном, я блуждал по табору ночами, прижимая к груди седло, наступал на спящих, спотыкался о лежащих коней, падал там и пробуждался утром, удивляясь, какая сила меня туда занесла. Потом научился слышать сквозь сон и обходил все преграды, управляясь слухом или какими-то таинственными чувствами (ведь глаза у меня были закрыты и мозг уснувший). Так забредал в степь или в лес и просыпался где-нибудь в буераке, на берегу ручья или даже на дереве. Вылечился от этой странной немощи в Стамбуле, может, потому, что неверным вряд ли и известна была такая болезнь, а может, потому, что не со мной все это было, а с моим побратимом - писарем Самийлом или еще с кем-то. Наверное, когда я умру, дух мой тоже не успокоится, как когда-то тело, и будет летать по всей земле нашей, останавливаясь то там, то там, то в Киеве, то в Чигирине, то в Субботове, то на хуторе Жуки, то в Гадяче, всюду, где будет пробуждаться память, эта властительница людских деяний, эта равнодушная регистраторша людских поступков и грехов, всемогущая распорядительница наших поступков, великая царица вечности, обладательница бездны небытия.
Напуганно и доверчиво поворачивалось ко мне личико, такое маленькое, что, казалось, накрыл бы его своей тяжелой ладонью, как теплую птичку, однако нет же - сила в нем непостижимая и обезоруживает тебя, будто величайшее могущество. Такое лицо не стареет, и не умирает никогда, и будет жить в моей памяти вечно, а когда угаснет мое сознание, тогда останется память о памяти, и будет длиться это вечно, ведь так мне хочется, а известно, что воля человека - сильнее смерти и небытия.
Я готов был заплатить за это личико всеми сокровищами земли, доступными мне и недоступными, - поставлено оно предо мной, как всемогущество природы, дань же природе, оплачиваемая темной страстью, не греховна и не унизительна, если она озарена ореолом любовной жертвенности и очистительного покаяния.
Но слова раскаяния замирали на моих устах, как только я слышал ее тихий и в то же время настойчивый голос:
- Батько, когда же повезете меня куда-нибудь?
- Куда же тебя повезти, дитя мое?
- Разве я знаю? В Варшаву, а может, еще дальше!
- До Варшавы далеко.
- Тогда хотя бы в Киев.
- В Киев? Ох, не знаю, не знаю. Повезу тебя в Чигирин.
- В Чигирин? А что - Чигирин? Это же так близко, батько!
Она улучила минуту, когда мы были одни, и оказалась возле меня, прижималась ко мне своим гибким телом, окутывала меня шепотом, ластилась и соблазняла.
- Батько, повезите, я так уже истомилась...
- Чигирин, - прошептал я ей. - Чигирин, Матронка милая...
Может, она и соглашалась, а может, хотела от меня чего-то невиданного, потому что обняла своими тонкими руками мою твердую шею и попросила изнеможенно и бессильно:
- Поцелуйте меня, батько.
И, не расправляя свои обвислые усы, не умея избавиться от мрачной тяжести, я поцеловал ее в молодые уста и не мог оторваться от нее, когда же оторвался, увидел в отблесках пламени таинственную улыбку на ее лице. Что она обещала миру и мне? Что таилось в этой улыбке?