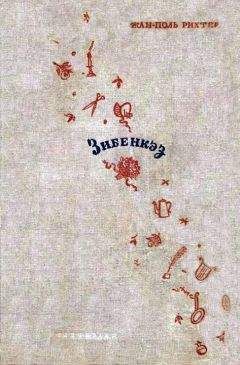В течение всего вечера авторское воодушевление гнало в таком неистовом беге все кровяные шарики Зибенкэза и кружило в таком вихре все его мысли, что при его пылкости, часто производившей впечатление сердечных припадков, он, несомненно, вспылил бы от всякой медлительности, которая явилась бы задержкой на его пути, — от неторопливого шага девчонки на побегушках или от ее словоохотливости, напоминающей барабанную дробь, — и взорвался бы, словно гремучее золото, если бы сразу же не прибегнул к особому жаропонижающему порошку, приняв его против восторженного возмущения. Легче очистить кровопусканием мутную, вяло текущую кровь и ускорить ее обращение, чем усмирить бурный напор крови, гонимой кипучим восторгом; однако наш герой даже в минуты величайшего счастья всегда умел успокаивать себя мыслью о неисчерпаемо щедрой руке, которой оно было ниспослано, и кротким умилением, в котором человек потупляет свой взор перед вечным тайным благодетелем всех сердец. Ибо тогда сердце, смягчаемое слезами признательности и счастья, стремится ответить хотя бы тем, что становится нежнее к ближним. Неистовое ликование, караемое Немезидой, лучше всего укрощается этим чувством: признательности; и те, кто погиб от радости, — избегли бы гибели, или же хоть снискали бы себе кончину от еще более прекрасной радости, если бы смягчили свою душу, возведя благодарные взоры к небесам.
Первая и лучшая благодарность за то новое, прямое и прекрасное русло, куда теперь была отведена его жизнь, выразилась у него в том, что он с величайшим подъемом повел начатую им защиту мнимой детоубийцы, стремясь избавить ее от пыток. Ее признал виновной Кушнаппельский городской лекарь на основании легочной пробы, при которой плавание, так же безошибочно, как при испытании водой, позволяет топить и казнить женщин.
Тихие дни брачной весны устилали цветочным ковром уединенный путь супругов. Лишь некий господин, одетый в шелк канареечного цвета, несколько раз появлялся внизу под окном, когда Ленетта утром сама высовывалась оттуда, высовывала свою белую ручку и долго трудилась, закрепляя откинутые ставни засовами. «Право, мне стыдно высунуться наружу, — говорила она. — Какой-то важный господин всегда стоит внизу, снимает шляпу, глядит на меня, словно кот на канарейку, и царапает что-то на бумаге».
Во время субботних школьных каникул школьный советник Штибель исполнил данное им в день свадьбы торжественное обещание приходить в гости весьма часто и являться по крайней мере еженедельно в каникулярные дни школы. Чтобы усладить слух читателей разнообразием, я буду называть советника Штиблет, ибо и без меня все местечко уже прозвало его так за штиблеты из беличьего меха с заячьими отворотами, которые он носил на ногах в качестве переносной дровосберегающей печки. Едва ступив на первую половину комнаты, Штиблет уже связал бутоньерку из радостных вестей и вдел ее в петлицу адвокату — пригласил его сотрудничать в «Кушнаппельском вестнике и божественном посланце и рецензенте всех немецких школьных программ» (следовало бы сделать более широко известным это издание, а тем самым и школьные писания, рекомендуемые в нем). Этот договор и писательский заказ меня сердечно радует, ибо моему герою за его рецензии перепадет по меньшей мере хоть грош на похлебку для ужина. Обычно советник, он же редактор «Вестника», с большим разбором замещал судейские вакансии критиков; но в его глазах Зибенкэз сделался единственным существом, стоящим на еще более высокой ступени, чем критик, а именно писателем, так как на пути из церкви он слышал от Ленетты, что ее муж собирается сдать в печать толстую книгу. Тогдашнюю «Зальцбургскую литературную газету» советник не мог себе представить иначе, как апокрифической Библией, а «Иенскую литературную газету» — канонической; голос одного-единственного рецензента, умноженный эхом ученого судилища, всегда казался ему тысячей голосов; его воображение превращало одну рецензирующую голову в многочисленные головы Лернейской гидры, подобно тому, как чорт, согласно старинному поверью, окружает голову преступника ложными головами, чтобы палач ошибся и отрубил не ту, которую следует. Безыменность придает суждению единой личности ту вескость, которая свойственна приговорам целой коллегии; но стоит подписать внизу имя и проставить «кандидат XYZ», вместо «Новая всеобщая немецкая библиотека», и авторитет ученой статьи кандидата будет этим слишком уж подорван. Моего героя советник завербовал ради его сатиры, ибо сам, хотя в обыденной жизни был кроткой овечкой, на бумаге своих рецензий превращался в вурдалака: так нередко бывает с кроткими людьми, когда они занимаются писательством, в особенности о humaniora и тому подобном; так, например, по Гиббону, кроткие пастушеские народы, прототипы геснеровских пастухов, охотно затевают войны и доблестно ведут их; да и сам Геснер не только писал идиллические картины, но и рисовал ядовитейшие карикатуры.
Наш герой и свеже-завербованный рецензент, со своей стороны, отблагодарил в этот вечер Штибеля нечаянной радостью и предвкушением многих дальнейших радостей, — а именно комариным или осиным талером из оставленной Лейбгебером маленькой коллекции, — не для того, чтобы в уплату за свое зачисление в осиное гнездо критики дать гостю douceur, но чтобы обменять комариный талер на более мелкие монеты. Советник, который, в качестве усердного хранителя серебра в собственном минц-кабинете, был убежден, что все деньги вообще должны быть достоянием кабинетов, — но не политических, а нумизматических, — просиял и раскраснелся от восхищения при виде талера и торжественно сказал адвокату, пожелавшему получить лишь естественную, а не искусственную стоимость этой монеты: «Вот что я называю истинным дружеским одолжением». — «Нет, — возразил Зибенкэз? — истинное одолжение оказал Лейбгебер, который даже не продал, а подарил мне этот талер». — «Но я, конечно, дал бы за него втрое больше, если бы вы только захотели» — сказал Штибель. — «Но послушайте, — перебила Ленетта (восхищенная восхищением и любезностью Штибеля, она старалась незаметно внушить мужу, чтобы он не уступал, причем проявляла удивившую меня решительность), — ведь мой муж не согласен иначе, и талер всегда остается только талером». — «Но в дальнейшем, — ответил Зибенкэз? — мне скорее следовало бы брать с вас втрое меньшую цену, если я буду сбывать вам всю мою маленькую коллекцию, талер за талером». — О добрые души! Если бы все людские Да звучали так же, как ваши Но!
В столь приятный вечер холостой Штибель не преминул проявить истинную учтивость к прекрасному полу и, тем более, к женщине, которая ему понравилась, еще когда ехала в его свадебной карете на свою свадьбу, а теперь нравилась ему вдвойне, сделавшись женой столь близкого друга и столь близким другом его самого. Поэтому он довольно ловко привлек ее к участию в разговоре (до сих пор носившем слишком ученый характер), перейдя по трем манекенам для чепцов, словно по трем камням мостовой, к журналу мод; но слишком скоро съехал на более старый журнал мод, а именно на трактат Рубениуса о нарядах древних греков и римлян. Далее он стал с увлечением излагать ей все свои воскресные проповеди, ибо христианской благодати мало в адвокате, а потому в нем нет и ничего богословского. Когда же она искала свечные щипцы, упавшие к ногам советника, то он держав подсвечник и, низко нагнувшись, светил ей.
Для всего зибенкэзовского дома или, точнее, комнаты, высокоторжественным днем оказалось воскресенье, приведшее туда более высокопоставленную особу, чем выступавшие до сих пор, а именно рентмейстера, г-на Эверара (Эбергардта) Розу фон Мейерна, молодого патриция, который был постоянным посетителем дома господина тайного, фон Блэза, где хотел «набить себе руку в служебных занятиях». Кроме того сей муж был женихом неимущей племянницы тайного, получавшей за пределами Кушнаппеля такое воспитание и образование, которое делало ее достойной сердца своего нареченного.
Стало быть, как в местечке, так и в нашей тернистой повести рентмейстер является видной фигурой — и притом в политическом смысле, но не в физическом; его тело было продето сквозь его цветистый наряд совсем как лучинка сквозь букет полевых цветов — под искрящимися надкрылиями его узорчатого жилетного зверинца[43] пульсировал совершенно отвесный, если не вогнутый, живот, а ноги имели в икрах не больший объем, чем те деревянные чулки, которыми, выставляя их в окнах, вязальщики чулок уведомляют о себе почтенную публику.
Рентмейстер весьма сухим и надменно-вежливым тоном сообщил адвокату, что пришел лишь для того, чтобы снять с него бремя защиты детоубийцы, так как ему ведь приходится вести столь много других дел. Но Зибенкэз очень легко разглядел сквозь этот предлог истинную цель визита: было известно, что хотя подзащитная адоптировала в отцы своего ребенка (столь мимолетно посетившего здешний мир) некоего всадника, развозящего образчики товаров, причем указать его имя не смогла ни она сама, ни судебное следствие, — однако второй отец ребенка, подобно начинающему писателю не пожелавший из скромности подписать свое имя под своей piece fugitive и своей вступительной программой, был не кто иной, как сухопарый рентмейстер Эверар Роза фон Мейерн собственной персоной. Часто бывает, что целый город умышленно fie признает (или игнорирует) Некоторые вещи; к числу их принадлежало и авторство Розы. Следовательно, тайный, фон Блэз, знал, что оно известно и защитнику Фирмиану, а потому опасался, что последний выместит на его родственнике Мейерне похищение наследства, умышленно плохо защищая бедную подсудимую, чтобы тот был опозорен ее казнью. Какое чудовищно низкое подозрение! — И все же даже самая чистая душа нередко бывает вынуждена подозревать, что ее подозревают в таких умыслах! — К счастью, громоотвод для бедной матери уже был выкован и воздвигнут Зибенкэзом. Когда он предъявил его казуальному и мнимому жениху мнимой детоубийцы, тот сразу же признал, что эта прекрасная Магдалина не смогла бы откопать среди местных адвокатов более ловкого святого-заступника (или, по крайней мере, более благочестивого, — добавят автор и читатели, которым известно, что защитой невинности он хотел возблагодарить небо за первый замысел «Бумаг дьявола»). Но тут супруга адвоката внезапно вернулась из комнаты соседа-переплетчика, куда она заходила с кратковременным визитом. Рентмейстер бросился к ней навстречу до самого порога, с учтивостью, доведенной до крайнего предела, — так как открыть дверь она все равно должна была раньше, чем он смог поспешить к ней навстречу. Он взял руку, которую она с пугливым почтением наполовину протянула ему, и поцеловал, склонившись, но возведя взоры кверху, причем произнес: «Мэддэмм, эту прекрасную руку я уже несколько дней держу в своих руках». Из его слов обнаружилось, что он и есть тот канареечный господин, который ее руку, высунутую в окно, тайком улавливал внизу рейсфедером на бумаге, так как нуждался в прекрасной модели для руки на коленном портрете своей отсутствующей невесты, на котором он решил нарисовать голову, основываясь на собственном воображении. Далее он снял перчатки (так как без них он не осмеливался прикоснуться к ней, следуя примеру некоторых древних христиан, столь же благоговейно обращавшихся со святыми дарами) со своих сверкающих колец и белоснежной кожи: чтобы сохранить эту белизну даже в самый сильный зной, он снимал перчатки только изредка, разве лишь зимой, когда опасность загара невелика. Кушнаппельские патриции, по крайней мере молодые, охотно следуют заповеди, которую Христос дал своим ученикам, — никого не приветствовать на улице; рентмейстер тоже был, как должно, невежлив с мужами, но отнюдь не с женами: напротив, к последним он проявлял бесконечную снисходительность. Между тем Зибенкэз, уже вследствие своего сатирического характера, обладал тем недостатком, что был вежлив и общителен с простыми людьми, но слишком непочтителен с высшими. Из-за недостаточной светскости он не умел описывать спиною надлежащую кривую линию перед гражданскими авторитетами, а потому — вопреки голосу своего миролюбивого сердца — держался прямо, словно жердь. Помимо недостаточной светскости, причиной тому было его адвокатское звание, воинственный характер которого внушает его носителю известную отвагу, тем более, что адвокат, в силу своего общественного положения, почти всегда может не считаться с чужим, а потому часто дерзает не уступать в этом отношении даже самым высокопоставленным особам (если только имеет дело не с судейскими сановниками и не с клиентами, которых он обязан обслуживать в меру своих скромных дарований). Впрочем, обычно в душе Зибенкэза человеколюбие незаметно сдвигало кобылку под туго натянутыми струнами, так что под конец они издавали только нежный и тихий звук. Лишь теперь проявить вежливость к рентмейстеру, — намерения которого в отношении Ленетты он невольно угадывал, — ему было гораздо труднее, чем проявить к нему грубость.