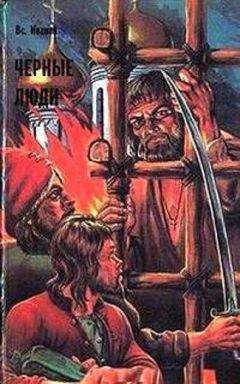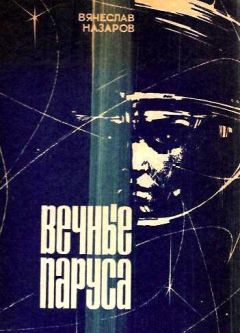Боярин, остервенев, ревел раненым медведем, — слово правды ранит пуще стрел; стрельцы же топтались, пятились под горячими словами, под огненным взором деревенского попа, когда наконец на воеводском струге от крика проснулся, вскочил, шагнул с борта прямо в воду стрелец, кудрявый Игнашка Бещов, с саженными плечами, в рыжих патлах, из-под которых обаполы курносого носа пялились оловянные озорные глаза, с помелом рыжей бороды на огромной челюсти, могучий, как степной конь. На берегу Бещов глянул на разъяренного боярина, услышал его крик «хватай», огляделся, бросился к попу, охватил его чудовищными лапами, бросил, как полено, себе на плечо.
— Куда прикажешь, боярин? — хрипел Бещов.
— В Волгу его! Мечи в Волгу! Топи его!
Сдавленный, как дитя, рычагами могучих рук богатыря Игнашки, поп даже не бился на его плече: это было бы непристойно. Он только громко восклицал:
— Господи, спаси! Господи, помоги!
Под крики толпы, увлеченной и восхищенной зрелищем силы, стрелец Бещов легко вскочил с ношей на нос струга, перебежал по нему к корме, поднял попа Аввакума высоко и швырнул его в Волгу.
Боярин подбежал прытко к самой воде, схватившись за живот, громко хохотал, смеялся за ним и сын Матвей. Глядя на боярина, засмеялся было кто-то из стрельцов, но смолк, толпа молчаливо насупилась. Страшна была сила рыжего гиганта, что стоял на корме струга в своем красном кафтане, следил, подавшись вперед, за тем, как на воде, в середине расходившихся кругов, всплывали пузыри, как, колыхаясь, плыла поповская скуфья.
Тихон не раздумывал. Как был, так и бросился в реку, поплыл вперед, осматриваясь — не покажется ли где длинноволосая голова?
Поп Аввакум вынырнул много ниже того места, куда он был брошен, огляделся, выплюнул воду изо рта, увидел подплывающего к нему Тихона.
— Ты что, раб божий? — спросил он, улыбнувшись добро.
— Не утонешь, батя?
— Не-е! Волгарь я! Спаси тебя Христос! Поплыву подале от сих скимнов!
И Аввакум, за ним Тихон поплыли вниз по течению, за мысом вышли на берег, стали разоболокаться, выжимать одежу.
— Ты, молодец, откудова взялся-то? — спросил поп Аввакум дрожавшего от волнения, гнева и холода Тихона.
— Со струга я! Иду на нем на Низ!
— То-то вижу — не здешний ты. Ты чей, раб божий?
— С Устюга. С Великого. По торговому делу. Благослови, честной отче!
— Погодь, оболокусь, так-то непристойно! — отвечал поп Аввакум, выжимая кафтан. — Спаси бог за горячую душу!
Другие-то, бедненькие мои прихожане, стоят да глядят, а в воду скакнуть не смеют. Как скакнешь? Ведь боярин попа-то бросил! Боярин! Дрожат, хоть и в воде не бывали. А души-то хорошие!.. Ты докуда плывешь?
— До Казани! — говорил Тихон. — Дивлюсь я, отче, как ты смело говоришь с большим боярином.
— А что Иван Златоуст пишет? Ты «Маргарит»-то чёл ли? Любовью к людям мы только и спасаемся, другим ничем же. «Аще предам тело мое на мучение, да сожгут его, — сказал апостол, — а любви не имею — никакой пользы не будет!» Люблю людей, затем и учу, люблю русичей, ну, от дураков страдать-то и приходится, силен-от бес-то, ох силен!
Поп Аввакум говорил все медленно, ясно. Видно было, что все, что он говорил, было у него давно обдумано, приведено в строгий порядок, и Тихон, глядя на спокойный лик деревенского попа, дивился этой твердости.
Поп Аввакум вздохнул. Огляделся.
— Эка благодать-то, господи! — помолчав, заговорил он, любуясь на березовую рощу, трепещущую, сквозную, яркую, в солнечных искрах и кружках. — Премудрость божия! Весна-красна! Как все прилажено, как всяк злак на пользу человекам! А вот такой скимен рыкающий, — кивнул он в сторону стругов, — ревет, а чего — и сам, дурачок, не знает. Сам себя укротить не хочет, нравен больно. А ты борись! Укрощай! А не укротишь себя — так люди укротят! А люди не укротят — бог укротит, сильна у Христа-то шелепуга[60]!
— Укротит?
— Обязательно укротит! Сам себя укрощай! Сам с собой борись! А когда все люди с собой крепки будут — ой легко на земле будет жить! Борись, сыне, с собой! Однова приходит ко мне одна девица красна, — ух, много греха. Исповедуется, а я слушаю ее речи и чую — беда мне! Блудный огонь и меня одолевает! Ой, горько мне! Я три свечи к аналою прилепил, зажег да праву руку свою на пламя возложил. Угасло оно, блудно разжение-то! Жечь себя надо, бороть…
Аввакум смотрел прямо в глаза Тихону — взор попа был легок, как бы удивлен.
— Значит, можно себя-то победить, — говорил он. — А сам себя победил — всех победил! Вдругорядь воевода наш дочь у вдовы-старушки отнял, взял себе на потеху. А я его в церкви обличил, сказал народу начистоту. Так он, дурачок, пришел ко мне в церковь с людом своим и, выволокши из храма, чуть не задавил меня. Ха-ха! С полчаса я лежал на снегу, как мертв. Потом ожил. А он, узнавши, что я жив, в церковь опять приходил, там меня бил и за ноги по храму таскал. А я в ризах только молитву творю.
Поп Аввакум подошел к кусту, на котором сушился кафтан, заглянул в сапоги и с доброй улыбкой вздохнул:
— А ну его! Не знают, что творят!
— Вот так всю жизнь в борении и живешь здесь, отец? — спросил Тихон.
— Нет, я в Москву от обиды потом потащился. К Неронову протопопу, к Ивану. К земляку. Тот меня к царскому духовнику свел, протопопу Степану. К Вонифатьеву. А Степан-протопоп про меня царю сказывал, и звал меня царь к себе, грамотку дал. Велел назад волочиться. Ишь ты, запировали!
Со стороны стругов неслись раскаты басовитого хохота, визжала баба.
— Как есть робятки! Пируют, — говорил добро поп, покачивая головой. — Однова меня чуть не задушили, как царь Иван митрополита Филиппа, вдругорядь сейчас чуть не утопили, аки волхвы Степана Пермского. И смеются люди, дурачки.
— Батюшка, а ты Пахомова Семена Исаковича — патриарший он человек — не знаешь ли?
— А как же! — живо повернулся к нему отец Аввакум. — С Нероновым ревнуют о благом. И Никон-архимандрит с ними… Дружки, спаси их господи. О народе забота у них… Ну, я оболокусь да побегу к себе этой стороной, а ты, раб Христов, будешь у нас — захаживай коли. Не забывай грешного иерея Аввакума.
Одевшись, поп Аввакум благословил Тихона и пошел к себе в село Лопатицы, прямиком через поле, а Тихон кинулся к стругам.
Бежал и думал:
«Как ведь оно бывает! Чего ищешь — ан вот оно! Само в рот лезет. Бабка Ульяна учит молчанию, поп Аввакум — слову учит. Сперва, должно, молчат, а потом, как уж невтерпеж станет, говорят… Ну и в воду попадают. Тоже не легче…»
Тихон перевалил через мысок — стало под дымом видать костры. В двух казанах варили уху. Два холопа у одного котла возятся, стрельцы — у другого. На травке ковер постелен, на нем возлежит воевода, пиво стоит, сулейки цветные с вином, мужики без шапок кругом стоят, ветер кудри у их вьет, у воеводы лысина блестит, розовая под солнцем. Боярин гремит безотрывно:
— Платить недоимок не будете — в батоги! На правеж! Или государю не платить, царю и великому князю? Гиль[61] подымать хотите?
Тихон обошел стороной, пришел к себе на струг, лег на стлань, слушал, как за бортом стучит, хлюпает вода — тихо да ласково. Ой, как хотелось бы тишины, да ласки, да милосердия! А как давеча ревел боярин, как хохотал, что поп пузыри пускал! А рыжий богатырь Бещов? Не знает, дурачок, чертова сила, что творит. За боярином идет. С него и спрашивать нечего. Спят, спят люди, дремлют.
И видел Тихон над собой лицо Аввакума, доброе да сильное.
Новое! Таких людей еще он, Тихон, николи не видывал.
И когда вернулся на струг его сосед, Кряжов Сергей Семенович, Тихон крепко спал, так и не попробовав ухи из боярской тони в Работках.
Лежит село Лопатицы недалеко от пристани Работки, на невысоком склоне меж двух рядов холмов, на дороге на Нижний Новгород. Кругом богатые луга, бортёвые темные леса, в самом селе шестьдесят дворов, на селе три кабака боярских, спаивают народ. Весь приход большой — до двухсот пятидесяти дворов.
Жили в селе по старине, миром. Староста да судьи были выборные, крестьяне тянули посошное тягло. Центром всей общественной жизни была церковь в Лопатицах да еще ближний монастырь Макария Желтоводского.
Шел уже девятый год, как поп Аввакум Петров священствовал в Лопатицах, а сан он принял на двадцать третьем году жизни. Сельский мир дал ему избу, землю, и он жил простым крестьянским обычаем. Попом Аввакум был белым— женатым, попадья его, кроткая Настасья Марковна, была дочерью кузнеца. Были они многодетны, да еще жили в их семье младшие братья Аввакума, вдова одного из братьев и племянница. У Петровых, как у всех крестьян на селе, была лошадь, сам поп пахал, сеял, жал хлеб, косил сено, и ему в этих работах помогали семейные… Трудились все шесть дён в неделю, спали на лавках под овчинами, в субботу ходили в баню, в субботу поп в сельской церкви пел всенощную, в воскресенье — обедницу…