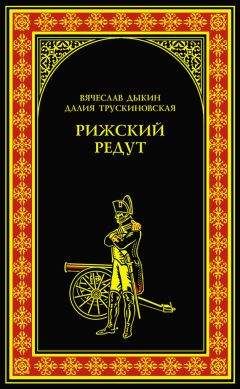Тогда, в бане, он вполне мог увести наверх, в номера, Оксану Левашову. Она бы не заставила долго себя уговаривать. Но его вдруг обожгла пошлость всего происходящего. Контора в бане, контора без штанов, контора, старательно изображающая веселье и сексуальный подъем, чтобы на следующий день делать вид, будто всего-навсего оттянулись, не более. У Марека была с собой книга, он убрался в холл второго этажа и преспокойно сел читать. Внизу галдели и пели революционные песни, кто-то шнырял в номера и обратно, хихиканье и взвизги мешали сосредоточиться. Почему-то секс и веселье, секс и юмор, секс и прикол у этих людей были, как партия и Ленин, — близнецы-братья. И еще — они все выделывались друг перед другом, кто наиболее прикольно сексуален и сексуально приколен.
Эту дурную баню Марек вспомнил, раздеваясь перед тренировкой. Рядом раздевалась девчонка, он ее знал, девчонку-качка, участницу чемпионатов. Она стянула джинсы и деловито наматывала на бедра пояс для похудения. С другой стороны раздевался старший, не глядя на девчонку, и она тоже ни на кого не глядела.
Такое отношение к процессу раздевания устраивало Марека куда больше, чем банная суета. Тут же позировал перед зеркалом в одних символических плавках незнакомый парень с крупным торсом и никудышными ногами. Марек с первого взгляда все понял: и то, как парню хочется на чемпионат, и то, как он никогда не приведет себя в соревновательную форму, ему этого от Бога не дадено.
А вот старшенький, даже не слишком утруждая себя, уже дважды выступил в чемпионатах. Генетика у них обоих оказалась неожиданно атлетическая.
В зале они, не сговариваясь, стали работать в паре, с одними весами, которые старшенький брал уже для рельефа мышц, все-таки пляжный сезон наступил, а младшенький — так, чтобы ощутить себя после перерыва, и не до упора, а с прохладцей, нечего связки калечить.
Потом вместе пошли в душ и в бар — пить протеиновые коктейли, угощал старший.
Услышав про старухину истерику, только про старухину, брат не расхохотался, а задумался.
— Если не поменять замок, она совсем обнаглеет, — сказал Марек.
— Мужиков, что ли, начнет водить? — рассеянно полюбопытствовал старший. Пошутил то есть.
— С нее станется. Как ты думаешь, сколько может стоить замок?
— М-м…
Он старше, выше и тяжелее, но с интеллектом у него все в порядке, подумал Марек, и он сообразит, и где взять недорогой замок, и как его врезать. Однако брат изобрел совсем иное.
— Слушай!
— Ну?
— Давай махнемся. Ты ко мне переедешь, я к тебе.
Тут Марек от неожиданного восторга так расхохотался, что в братних глазах зародилось беспокойство.
Ну да! Классический сюжет — «близнецы»! Вообще-то старший и младший — не на одно лицо, те, кто хотя бы пару раз видел их вместе, уже не путают, но бабка!
Старший усмехался сдержанно — он был способен привести сумасшедшую старуху к повиновению.
Марек знал за ним такое свойство — старший умел говорить настолько внушительно, что его даже родители вдруг начинали опасаться. Они не понимали, что там на самом деле под его спокойствием и внушительностью.
Старший никогда не срывался, но как бы намекал — худо будет, если сорвусь. Этого искусства тяжелого намека Марек до сих пор не мог постичь. Он начинал волноваться и не умел скрыть волнения, сперва шалили руки, потом — голос, истончался до безобразия, а потом уж выкрикивалось нечто несообразное, такое, что стыдно вспомнить, и потому оно запихивалось в самые гнилые закоулки подсознания.
— «Укрощение строптивой»! — воскликнул Марек и вдруг вспомнил — библиотека.
Когда его выперли из института — два года назад, и до чего же быстро эти два года пролетели, — он так и не рассчитался с факультетской библиотекой. Книги стояли у дивана четырьмя высокими стопками. Следовало разобраться, что свое, что институтское, и наконец-то избавиться от программной литературы. Шекспир там точно был, именно комедии… или оставить Шекспира?.. А вот что нужно отдать непременно — так это Данте, «Божественную комедию», том толщиной с Мареково бедро. И с картинками. Надо же так себя накрутить, чтобы отгрохать эту кучу терцин. Должно быть, все прочие проблемы у этого Данте Алигьери были решены, а что в таких случаях говорила бабушка-еврейка? Когда коту делать нечего, он яйца лижет, вот как она говорила. Впрочем, у бабушки-полячки тоже было что-то соответствующее…
Конечно, ничего страшного, если Данте будет оставлен возле мусорки для развлечения бомжей. Библиотека прислала Мареку четыре открытки с напоминаниями и, видно, похоронила его вместе с Данте. И прочие жуткие книги тоже — там им самое место.
Какой идиот в наше время поступает на факультет славистики?!
Если бы кто сказал Мареку, что он вечером, готовясь к переезду, скорчится над «Божественной комедией» и очнется в три часа ночи, он бы не то что не поверил… Он мог с головой, плечами и грудной клеткой уйти в книгу, но в нормальную книгу! Это за ним водилось.
Считать ли «Божественную комедию» нормальной книгой?
Раньше он бы не мог ответить на этот вопрос — когда читаешь что-то по программе за два дня до зачета, не до диагнозов.
А в три часа ночи он опознал в книге то самое безумие…
* * *
…обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
Но я, с главою, ужасом стесненной,
Вдруг чью-то тень неясную узрел,
Сходящую тропою потаенной.
(За сим идет старинная гравюра —
Сплетеньем тел передавая стон,
Бугрится обнаженная натура;
Вергилий с указующим перстом,
В прилично складками лежащей тоге,
Отменно видный в черноте ночной;
А также виден гравий на дороге
И Данте с капюшоном за спиной;
Его лицо, иссохшее от бденья,
И обувь для неблизкого пути;
Пергамент, на который наблюденья
Он непременно хочет занести.
Дыша подземным жаром без усилий,
(Смрад не дается резчикам гравюр),
Ведет по девяти кругам Вергилий,
Устраивая в каждом перекур.
Они вдвоем стоят или садятся,
Иль Данте пред Вергилием поник;
Учитель поучает; тени мчатся;
Клокочет Ад; трепещет ученик.
Застыли эти двое перед вами,
Два истукана в адской суете,
С вопросом, изрекаемым руками,
С ответом на пронзительном персте.)
— Скажи, кто сей, каков его удел? —
Спросить я у вожатого о тени,
Идущей вниз уверенно, посмел.
И мне в ответ: — Достойно удивлений,
Что лишь сейчас, пройдя немалый путь
И одолев опасные ступени,
О нем ты вспомнил.
Можно лишь вздохнуть
О тех, чья память бережет дурное
И возмущеньем лишь пылает грудь.
Ты здесь желал увидеть то земное,
Что вызывало ненависть твою,
Не скорбь над их посмертною судьбою.
А между тем в отверженном краю
Имел одно божественное право:
Когда бы злость ты отпустил свою,
Когда бы ты покорно, не лукаво
И искренне к Всевышнему воззвал,
Смирив огонь язвительного нрава,
Когда бы о прощенье умолял
Хотя б одной душе в пределах Ада,
И вывести отсюда пожелал —
Как знать, какой была б твоя награда.
Ничья тебя не тронула беда,
И сам же ты — делам своим преграда.
И молвил, растерявшись, я тогда:
— Но как же мог осуществить я это?
— Здесь нужно, чтоб душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета, —
Так отвечал вожатый. Между тем
Исчезла тень, но блик случайный света
Плыл в глубине, то вдруг пропав совсем,
То вдруг воскреснув; в бездну погружался,
Но в бездне страшной виден был он всем.
Сказал учитель: — Знать ты домогался,
Кто путник тот, бредущий меж камней.
Но ты ведь им, безумным, восхищался;
Ты брал его в пример любви своей;
Признать его ты должен был мгновенно
По взору и повадке; то — Орфей.
Он, Эвридике верен неизменно,
Пытается из Ада увести
Погибшую, и чувство незабвенно.
Позволено ему ее найти!
И он, найдя, уводит за собою,
И вновь ее теряет на пути.
Могу ли я сравнить его с тобою?
Могу — равны вы силой звонких слов,
Но не равны вы избранной судьбою!
Скажи — ты тоже в страшный путь готов,
Не к небесам, а вниз, тоской томимый,
Спускаться по уступам вновь и вновь?
Так в грозный Ад на поиски любимой
Тебя вела ль когда-нибудь любовь?
* * *
Проблема переезда решилась в пять минут.